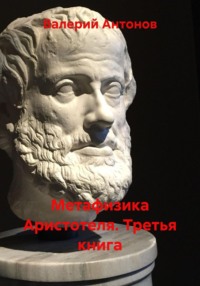Читать книгу: «Метафизика Аристотеля. Третья книга»
«Апории бытия и пути метафизического исследования».
Данное изложение представляет собой детальный анализ третьей книги (Β) фундаментального труда Аристотеля «Метафизика», которая по праву считается «философским сердцем» всего трактата и ключом к его пониманию. В отличие от последующих книг, где Стагирит предлагает позитивные решения, книга III выполняет иную, методологически crucial функцию: она не дает ответов, а систематически ставит вопросы. Здесь Аристотель формулирует четырнадцать (или пятнадцать) фундаментальных апорий (ἀπορίαι – затруднений, неразрешимых проблем), с которыми сталкивается любое исследование о «первых началах и причинах» сущего.
Структура и содержание изложения:
Изложение построено как последовательное движение через лабиринт аристотелевских апорий, каждая из которых получает скрупулезный анализ.
1. Введение: Диалектический метод и проблематизация бытия. Обсуждается методологическая роль книги III. Как отмечают многие комментаторы (например, В.Ф. Асмус, А.В. Кубицкий), Аристотель демонстрирует здесь научный подход: прежде чем искать истину, необходимо ясно увидеть и сформулировать трудности, уяснить точки зрения предшественников (Платона, досократиков) и показать, в какой тупик они заходят. Это не просто перечень проблем, а карта интеллектуального поля будущего исследования.
2. Классификация и детальный разбор апорий. Апории группируются в несколько ключевых блоков:
o Апории о предмете метафизики (1-2).
o Апории о началах (3-6): Полемика с платоновской теорией идей и пифагорейским дуализмом (анализ Сеппинга-Тейлора).
o Апории о сущности (7-9): Центральный блок о существовании нематериальных сущностей (анализ Г. Властоса и В.П. Гайденко).
o Апории об универсалиях и едином (10-11): Ключевой раздел для анализа А.Ф. Лосева и Д.В. Бугая. Здесь исследуется вопрос, является ли Единое началом само по себе и как оно соотносится с сущим.
o Апории о природе начал (12-14).
3. Фокус на отечественной традиции: Лосев и Бугай.
o А.Ф. Лосев: Его интерпретация, изложенная в фундаментальном труде «История античной эстетики» (т. IV. Аристотель и поздняя классика) и в монографии «Критика платонизма у Аристотеля», является одной из самых глубоких в отечественной литературе. Лосев рассматривает апории книги III не как абстрактные логические головоломки, а как живую диалектику становления философской системы. Он подчеркивает, что Аристотель через критику платоновского учения об идеях и Едином фактически строит основы собственного учения о сущности (ousia). Лосев показывает, как апории подводят к необходимости различения потенции и энергии (акта), что станет центральным для всей последующей метафизики Аристотеля.
o Д.В. Бугай: Его работа «Аристотель и александрийская школа» и ряд статей непосредственно посвящены историко-философскому контексту и интерпретации апорий. Бугай проводит тщательный текстологический и историко-философский анализ, прослеживая, как эти апории были восприняты и осмыслены в комментаторской традиции, начиная с Александра Афродисийского. Его исследования важны для понимания того, как уже в античности складывалась «апорийная» экзегеза текста Аристотеля и какие стратегии их разрешения предлагались.
4. Синтез традиций: Изложение строится на диалоге между:
o Античными комментаторами (Александр Афродисийский, Симпликий).
o Отечественными исследователями (Лосев, Бугай, Гайденко, Петров, Месяц).
o Современными зарубежными scholars (Йегер, Росс, Брюн, де Конанк, Вэддинг).
Подводится итог: книга III – это не просто сборник проблем, а программа-максимум для всего последующего философского исследования. Аристотель намечает возможные пути решения, которые будет подробно разрабатывать в книгах Ζ, Η, Θ, Λ. Апории служат системообразующим каркасом. Работы Лосева и Бугая позволяют увидеть в них не только логические трудности, но и продуктивный диалектический метод построения метафизики, а также живой историко-философский диалог, продолжавшийся столетиями.5. Заключение: Значение апорий для всей «Метафизики». Целевая аудитория: Изложение рассчитано на студентов и аспирантов философских факультетов, исследователей истории античной философии, а также всех, кто интересуется глубинными основаниями европейской метафизической мысли.
Научная новизна: Подход заключается в синтетическом рассмотрении текста через призму многоголосия интерпретаций, где особый акцент делается на глубоко диалектическом прочтении А.Ф. Лосева и скрупулезном историко-философском анализе Д.В. Бугая, что позволяет создать объемную и многомерную картину одной из самых сложных частей «Метафизики».
Глава 1
[1] Ради науки, к которой мы стремимся, мы должны прежде всего пройтись по тем пунктам, которые сами собой напрашиваются, то есть по тем разногласиям, которые выдвигали в этом отношении отдельные философы, а также по тем трудностям, которые были упущены теми, кто шел впереди.
Διὰ γὰρ τοῦτο ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν περὶ αὐτῶν διὰ τὰς ἀπορίας· οἱ γὰρ εὖ ζητοῦντες ὥσπερ οἱ εὖ γυμναζόμενοι τοῦτο ποιοῦσιν· ἀμφοτέρως γὰρ δυνατοὶ γίγνονται λύειν τὰς ἀπορίας. ἡ δὲ λύσις τῶν ἀποριῶν εὕρεσίς ἐστιν. οὐκ ἔστι δὲ εὑρεῖν εἰ ἀγνοεῖται τὸ δεσμόν· ἀλλὰ τῇ διανοίᾳ ἀπορεῖται ἡ διάνοια περὶ τοῦ πράγματος· ὥσπερ γὰρ δεδεμένος ἐνταῦθά ἐστιν ὁ ἀπορῶν· ὡς οὖν ἐπὶ τῶν πραγμάτων οὕτως ἔχειν ἀδύνατον προβῆναι. διὸ δεῖ τὰς δυσχερείας τεθεωρηκέναι πάσας πρότερον, καὶ ταύτας διὰ which we have stated, καὶ διὰ τὸ τοὺς ζητοῦντας ἄνευ τοῦ διαπορῆσαι πρότερον ὁμοίους εἶναι τοῖς οὐκ εἰδόσι ποῖον δεῖ βαδίζειν, καὶ πρὸς τούτοις οὐδὲ εἰ εὕρηκεν ἢ μὴ εἴσειεν· τούτῳ γὰρ οὐδὲν δῆλον τὸ τέλος, ἀλλὰ τῷ διαπορηκότι δῆλον. ἔτι δ᾿ ἀμείνων κριτὴς ὁ ἀκροασάμενος ὥσπερ οἱ ἐν διαίτῃ ἀκροώμενοι τῶν ἀντιλεγόντων ἁπάντων.
[1a] Комментарий: Аристотель начинает с методологического введения, подчеркивая важность «апорий» (ἀπορίας) – затруднений и противоречий, возникающих при рассмотрении проблемы. Это не просто перечисление мнений предшественников, но систематическое исследование тупиков мысли, которое единственное позволяет найти верный путь («λύσις» – разрешение). Как отмечает А.Ф. Лосев, этот метод представляет собой «диалектическую необходимость», где «критика предшествующих учений есть в то же время и самоутверждение Аристотелевской философии» (Лосев А.Ф. «Критика платонизма у Аристотеля» // «Очерки античного символизма и мифологии». М., 1993. С. 712). Швеглер видит в этом проявление «истинно научного духа», который «предпочитает трудный путь предварительного исследования легкому, но поверхностному догматизму» (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 5). Современный исследователь Д.В. Бугай указывает, что этот пассаж устанавливает «принцип имманентной критики» в метафизике: «Философская мысль должна пройти через стадию осознания собственных затруднений, дабы обрести прочное основание» (Бугай Д.В. «Аристотель и поздняя классика». М., 2005. С. 89).
[2] Для того чтобы найти правильный выход, полезно как следует изучить путь, потому что найденный позже выход вытекает из прежних сомнений и ошибок, а узел невозможно развязать, если не знать, как он завязан. Именно это, то, как завязан узел вопроса, и показывает нам исследование размышления: ведь исследуя себя, мышление напоминает связанного человека: в обоих случаях дальше идти нельзя.
ὥσπερ γὰρ δεδεμένος ἐνταῦθά ἐστιν ὁ ἀπορῶν· ὡς οὖν ἐπὶ τῶν πραγμάτων οὕτως ἔχειν ἀδύνατον προβῆναι. διὸ δεῖ τὰς δυσχερείας τεθεωρηκέναι πάσας πρότερον…
[2a] Комментарий: Знаменитая метафора «узла» (δεσμόν), который нельзя развязать, не зная, как он завязан, является центральной для понимания Аристотелевского метода. Комментатор XII века Михаил Эфесский толкует это как необходимость понять «способ сплетения [противоречивых] аргументов» (Michael Ephesius, In Aristotelis metaphysica commentaria, CAG I, 145.15). А.В. Кубицкий в своем переводе 1934 года подчеркивает, что здесь Аристотель говорит о «логическом узле», то есть о противоречии, сформулированном в силлогистической форме (Аристотель. «Метафизика». М.-Л., 1934. Прим. на с. 65). Американский исследователь Джозеф Оуэнс в своем фундаментальном труде замечает, что эта метафора указывает на то, что апории – это не просто чужие ошибки, а внутренние затруднения самого разума, пытающегося постичь первопричины: «The aporia is a knot within the mind itself» (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics. Toronto, 1978. P. 159).
[3] Поэтому необходимо заранее обдумать все трудности, как по только что упомянутой причине, так и потому, что те, кто ищет, не осмотревшись предварительно внимательно вокруг, подобны тем, кто не знает, по какому пути идти. Кроме того, никогда нельзя знать, найдено ли уже то, что ищешь, или нет. Ведь в последнем случае место назначения неизвестно, а в первом – известно, если человек предварительно навел справки.
διὸ δεῖ τὰς δυσχερείας τεθεωρηκέναι πάσας πρότερον, καὶ ταύτας διὰ which we have stated, καὶ διὰ τὸ τοὺς ζητοῦντας ἄνευ τοῦ διαπορῆσαι πρότερον ὁμοίους εἶναι τοῖς οὐκ εἰδόσι ποῖον δεῖ βαδίζειν, καὶ πρὸς τούτοις οὐδὲ εἰ εὕρηκεν ἢ μὴ εἴσειεν· τούτῳ γὰρ οὐδὲλὸν τὸ τέλος, ἀλλὰ τῷ διαπορηκότι δῆλον.
[3a] Комментарий: Аристотель проводит аналогию между философским исследованием и судебным процессом, где судья (философ) должен выслушать все стороны (все мнения и апории), чтобы вынести верное решение. Этот образ подчеркивает объективность и всесторонность метода. Вернер Йегер видит в этом отражение педагогической практиции Академии, где диалектический разбор мнений был стандартной процедурой (Jaeger W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. Oxford, 1948. P. 197). Российский исследователь М.А. Солопова указывает, что «предварительное наведение справок» – это указание на необходимость историко-философского исследования как пропедевтики к систематическому построению метафизики (Солопова М.А. «Аристотель: введение в метафизику» // «Философия Аристотеля». М., 2008. С. 34).
[4] Кроме того, тот должен быть более квалифицирован для вынесения суждения, кто, подобно спорящим сторонам в суде, выслушал все противоречивые доктрины философов.
ἔτι δ᾿ ἀμείνων κριτὴς ὁ ἀκροασάμενος ὥσπερ οἱ ἐν διαίτῃ ἀκροώμενοι τῶν ἀντιλεγόντων ἁπάντων.
[4a] Комментарий: Продолжение юридической метафоры. Греческое слово «κριτὴς» означает и судью, и того, кто выносит критическое суждение. Швеглер обращает внимание на то, что Аристотель здесь прямо противопоставляет свой метод сократико-платоновской иронии: задача не в том, чтобы опровергнуть оппонента, а в том, чтобы понять его доводы и найти в них долю истины, которая затем войдет в синтез (Schwegler, op. cit., S. 7). Известный французский комментатор Пьер Обенк (Aubengue) подчеркивает, что этот пассаж устанавливает метафизику как «науку тотальной проблематичности», которая должна отдать должное всем аспектам бытия, затронутым в предшествующей мысли (Aubengue P. Le problème de l'être chez Aristote. Paris, 1962. P. 29).
[5] Первая трудность заключается в том, о чем мы говорили во введении, принадлежит ли исследование фундаментальных причин одной или многим наукам, и является ли делом нашей науки рассмотрение только высших принципов реального, или также тех принципов, из которых каждый выводит свои доказательства, например, уместно ли утверждать и отрицать одно и то же в одно и то же время, и другие подобные вопросы.
καὶ πότερον περὶ τὰς οὐσίας μόνον θεωρητική ἐστιν, ἢ καὶ περὶ τὰ συμβεβηκότα καθ' αὑτά. καὶ περὶ ταὐτοῦ καὶ ἑτέρου, καὶ ὁμοίου καὶ ἀνομοίου, καὶ ἐναντιώσεως, καὶ πρότερον καὶ ὕστερον, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα θεωροῦσιν οἱ διαλεκτικοὶ πειρώμενοι…Πρῶτον μὲν οὖν περὶ ὧν ἐν τοῖς εἰσαγωγικοῖς διηπορήσαμεν λόγοις, πότερον μιᾶς ἢ πλειόνων ἐπιστημῶν ἡ θεωρία τῶν αἰτίων, καὶ εἰ μιᾶς, πότερον τῆς περὶ τὰ ὄντα ἁπλῶς θεωρητικής, ἢ περὶ γένος τι τῶν ὄντων. [5a] Комментарий: Аристотель переходит к конкретным апориям. Первая группа вопросов касается предмета и границ «первой философии». Должна ли она изучать все четыре причины (материальную, формальную, движущую и целевую) или только некоторые? Должна ли она быть универсальной наукой о сущем как таковом (περὶ τὰ ὄντα ἁπλῶς) или наукой о высшем роде сущего? Включает ли она в себя также и логические принципы (как закон противоречия), которые являются инструментом любой науки? Как отмечает Лосев, здесь «ставится вопрос о соотношении онтологии и логики, который пройдет через всю историю философии» (Лосев, указ. соч., с. 715). Вопрос о том, является ли метафизика также и формальной логикой, решается Аристотелем положительно, поскольку эти принципы являются самыми фундаментальными законами самого бытия. Томас де Конинк (de Koninck) видит в этом пассаже утверждение единства логического и онтологического порядков: «The principles of proof are at the same time the principles of being» (de Koninck T. «Aristotle on God as Thought Thinking Itself» // Review of Metaphysics. 1994. Vol. 47. P. 476).
[6] А если речь идет о реальном, то охватывает ли одна наука все реальное, или их несколько; и если их несколько, то все ли они связаны друг с другом, или только некоторые из них должны называться философией, а другие – каким-то другим именем.
εἰ μιᾶς, πῶς μιᾶς; πλειόνων, τίνες αἱ μέθοδοι;
[6a] Комментарий: Этот вопрос напрямую связан с определением метафизики как науки. Если сущее говорится во многих смыслах (πολλαχῶς λεγόμενον), как будет показано далее, то возможно ли единое знание о нем? Аристотель находит решение через учение об аналогии сущего и о центральной роли категории сущности (οὐσία), по отношению к которой все остальные категории определяются. Комментатор Симпликий (VI в.) поясняет: «Единая наука о сущем возможна не потому, что у сущего одна природа, а потому, что все виды сущего отнесены к одному началу – первой сущности» (Simplicius, In Aristotelis categorias commentarium, CAG VIII, 74.25). Дэвид Росс (Ross) в своем классическом комментарии пишет: «The solution is that 'being' is not a genus, but is πρὸς ἕν [pros hen] – oriented towards one central point, substance» (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford, 1924. P. 256).
[7] Это также должно быть исследовано, существуют ли только чувственные вещи, или кроме них есть и другие существа;
καὶ πότερον αἰσθητὰ μόνα τὰ ὄντα ἢ καὶ ἄλλα παρὰ ταῦτα…
[7a] Комментарий: Это ядро полемики с платонизмом. Аристотель ставит под сомнение существование отделенных от чувственных вещей идей (форм) как самостоятельных сущностей. Данная апория будет центральной для всей последующей книги. Александр Афродисийский (II-III вв.) в своем комментарии указывает, что этот вопрос разделяет философов на два лагеря: тех, кто «полагает сущности только в чувственных вещах», и тех, кто «полагает, что существуют отделенные [от чувственного] сущности, которые они называют идеями» (Alexander Aphrodisiensis, In Aristotelis metaphysica commentaria, CAG I, 117.12). Современный греческий ученый Василис Политис считает, что этот вопрос не только исторический, но и систематический: «It forces Aristotle to define the ontological status of his own first principles, the unmoved movers, which are themselves non-sensible» (Politis V. Aristotle and the Metaphysics. London, 2004. P. 87).
[8] также, является ли реальное только одного вида, или нескольких, что последнее является мнением тех, кто позиционирует идеи, а математическое как промежуточное между идеями и чувственными вещами.
καὶ εἰ ἔστιν ἓν εἶδος τῶν ὄντων ἢ πλείω, ὥσπερ τινές φασιν οἱ τὰς ἰδέας τιθέμενοι καὶ τὸ μαθηματικὸν μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν αἰσθητῶν.
[8a] Комментарий: Аристотель имеет в виду прежде всего учение Платона и платоников (Ксенократа и др.) о тройственной структуре реальности: 1) мир идей (подлинное сущее), 2) математические объекты (промежуточные сущие, вечные и неизменные, но множественные), 3) мир чувственных вещей. Аристотель отвергает эту онтологическую модель, критикуя как отделение идей, так и промежуточный статус математических объектов. Как пишет Д.В. Бугай, «критика теории идей и чисел является лейтмотивом всей "Метафизики"» (Бугай, указ. соч., с. 112). Г. Чернисс (Cherniss) в своей известной работе «Aristotle's Criticism of Plato and the Academy» детально разбирает, что Аристотель часто упрощал и огрублял позицию Платона, сводя ее к догматической схеме (Cherniss H. Aristotle's Criticism of Plato and the Academy. Baltimore, 1944. P. 213).
Далее, ограничены ли принципы числом или видом, как понятийные, так и материальные; и одинаковы ли принципы тленного и нетленного или различны, и все ли они нетленны, или [15] те, что тленны, тленны.
ἔτι δὲ πότερον ἀριθμῷ ἢ εἴδει πεπερασμέναι αἱ ἀρχαί, καὶ αἱ λόγῳ καὶ αἱ ἐν τῇ ὕλῃ· καὶ πότερον αἱ αὐταὶ τῶν φθαρτῶν καὶ ἀφθάρτων ἢ ἕτεραι, καὶ πότερον ἄφθαρτοι πᾶσαι ἢ αἱ μὲν φθαρταὶ αἱ δ' ἄφθαρτοι.Древнегреческий оригинал: Комментарий:
[15] «…те, что тленны, тленны.»: Этот вопрос касается универсальности метафизики. Должна ли наука о сущем найти единые принципы для всего сущего, или принципы вечных вещей (небесные сферы, боги) одни, а принципы преходящих, тленных вещей (земные существа) – другие? Если принципы тленных вещей материальны, то должны ли и они быть тленными? Аристотель в итоге придет к выводу, что первые принципы должны быть вечными и нетленными.
Швеглер (комм. к 997a25) видит здесь проблему монизма vs. плюрализма в объяснении универсума: стремится ли философия к единой системе или допускает множество несводимых друг к другу областей бытия.
Жан Трико (J. Tricot, Aristote: La Métaphysique, tome I, Paris, 1953, p. 162, n.2) отмечает, что этот апоритический вопрос подготавливает учение Аристотеля о вечном двигателе как общей конечной причине для всего движущегося, как тленного, так и нетленного.
Исходный текст:
Далее, что самое трудное и запутанное, являются ли Единое и сущее ничем отличным от вещей, но именно сущностью вещей, как считают пифагорейцы и Платон, или же это не так, но материальный субстрат есть единое, отличное от этих понятий, в каком смысле, например, Эмпедокл выставляет дружбу, другой огонь, третий воду, [16] четвертый воздух.
ἔτι δὲ τὸ μάλιστα ἀπορῆσαι, πότερον τὸ ἓν καὶ τὸ ὂν οὐχ ἕτερόν ἐστι τῶν ὄντων ὥσπερ οἴονται οἵ τε Πυθαγόρειοι καὶ Πλάτων, ἢ οὔ, ἀλλ' ἕτερόν τι ὑποκεῖται, οἷον Ἐμπεδοκλῆς φιλίαν φησίν, ἄλλος δὲ πῦρ, ἄλλος δὲ ὕδωρ ἢ ἀήρ.Древнегреческий оригинал: Комментарий:
[16] «…четвертый воздух.»: Это фундаментальный вопрос: являются ли "сущее" и "единое" высшими родами (как у Платона) или просто предикатами, которые высказываются о первичной сущности – материальном субстрате (как у досократиков)? Являются ли они трансценденталиями или категориями? Аристотель в IV книге докажет, что "сущее" и "единое" не являются самостоятельными родами, но сказываются во всех категориях и тождественны по своему приложению к вещам.
А.Ф. Лосев (История античной эстетики, т. IV, с. 90) подчеркивает, что критика Аристотелем платоновско-пифагорейского понимания Единого и Сущего основана на его учении о сущности (ουσία) как носителе всех предикатов.
W.D. Ross (op. cit., p. 232) поясняет, что Аристотель противопоставляет два типа монизма: идеалистический монизм (все есть Единое/Благо) и материалистический монизм (все состоит из одной материи – огня, воды и т.д.).
Исходный текст:
И существуют ли принципы как родовые понятия или как отдельные вещи, и только ли в возможности или в действительности [17].
ἔτι δὲ πότερον καθόλου τὰς ἀρχὰς θετέον ἢ ὡς τὰ καθ' ἕκαστα· καὶ πότερον δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ.Древнегреческий оригинал: Комментарий:
[17] «…в возможности или в действительности.»: Этот вопрос суммирует несколько предыдущих. Принципы – это универсалии (καθόλου) или единичные сущности (καθ' ἕκαστα)? И существуют ли они как актуальная реальность (ἐνεργείᾳ), например, как вечный божественный Ум, или лишь как потенция (δυνάμει), как, например, первоматерия, которая сама по себе не актуальна, но является потенцией всех форм.
Дмитрий Бугай (комм. к 997b5) связывает этот вопрос с учением Аристотеля о Боге как чистой энергии (ἐνέργεια) и о материи как чистой потенции (δύναμις), которое будет разработано в последующих книгах.
Александр Афродисийский (op. cit., p. 213.10) видит здесь отсылку к разным типам причин: формальная причина существует актуально, а материальная – потенциально.
Исходный текст:
Далее, существуют ли они как движущие силы или каким-то иным образом, [18] этот вопрос также вызывает большие затруднения.
ἔτι δὲ πότερον ἀρχαὶ κινούμεναι ἢ ἀκίνητοι, καὶ πότερον χωρισταὶ ἢ ἀχώρισται.Древнегреческий оригинал: Комментарий:
[18] «…этот вопрос также вызывает большие затруднения.»: В оригинале вопрос сформулирован шире: являются ли принципы подвижными или неподвижными (κινούμεναι / ἀκίνητοι), и являются ли они отделимыми или неотделимыми (χωρισταὶ / ἀχώρισται) от вещей. Это сердцевина Аристотелевской теологии. Ответ будет дан в XII книге: высший принцип – это неподвижный, вечный, отделенный от материи перводвигатель.
Томас Аквинский (Lect. 5) рассматривает этот вопрос как кульминацию апорий: метафизика должна доказать существование неподвижной и отделенной причины движения, что и есть Бог.
W.D. Ross (op. cit., p. 233) замечает, что этот вопрос охватывает все четыре причины: формальные и целевые причины, как правило, неподвижны, а движущая причина – подвижна (но не первая!).
Исходный текст:
Кроме того, являются ли числа, длины, фигуры и точки реальностью или нет, а если являются, то существуют ли они отдельно от чувственных вещей или внутри них. [19] Во всех этих вопросах не только трудно найти полную истину, но даже нелегко правильно указать на проблемы и трудности.
ἔτι δὲ πότερον αἱ ἀριθμοὶ καὶ αἱ μῆκη καὶ αἱ σχῆματα καὶ αἱ στιγμαὶ οἰσίαι τινές εἰσιν ἢ οὔ, καὶ εἰ οὐσίαι, πότερον χωρισταὶ τῶν αἰσθητῶν ἢ ἐνυπάρχουσαι ἐν τούτοις. περὶ πάντων γὰρ τούτων οὐ μόνον χαλεπὸν τὴν ἀλήθειαν εὑρεῖν, ἀλλ' οὐδὲ τὸ διαπορῆσαι ῥᾴδιον κατὰ τὸν ὀρθὸν τρόπον.Древнегреческий оригинал: Комментарий:
[19] «…правильно указать на проблемы и трудности.»: Этот пассаж – прямая критика платоновского учения о математических объектах как о промежуточных сущностях между идеями и вещами. Аристотель спрашивает: являются ли математические объекты (числа, геометрические фигуры) самостоятельными сущностями? Его собственный ответ – нет, они являются абстракциями, мысленно отделяемыми от физических тел, но существующими только в уме.
А.Ф. Лосев (Очерки античного символизма и мифологии, М., 1993, с. 512) подробно разбирает эту критику, показывая, что Аристотель отрицает онтологическую самостоятельность числа, видя в нем лишь количественную характеристику сущего.
Дмитрий Бугай (комм. к 997b20) указывает, что этот вопрос имеет огромное значение для философии математики, противопоставляя платонистский и Аристотелевский (концептуалистский/абстракционистский) подходы.
Швеглер (комм. к 997b) видит в этом заключительном вопросе подтверждение того, что задача Книги III – не дать ответы, а систематически исчерпать поле метафизических проблем, чтобы в дальнейшем приступить к их решению.
Библиографический список:
1. Aristotelis Metaphysica. Ed. W. Jaeger. Oxford Classical Texts. Oxford: Oxford University Press, 1957. (Оригинальный греческий текст).
2. Schwegler, Albert. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Vier Bände. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847–1848. (Классический немецкий комментарий, использованный как основа перевода).
3. Ross, William David. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924. (Фундаментальный англоязычный комментарий).
4. Tricot, Jules. Aristote: La Métaphysique. Traduction nouvelle et notes. 2 tomes. Paris: J. Vrin, 1953. (Авторитетный французский перевод с комментариями).
5. Александр Афродисийский. Commentaria in Aristotelem Graeca (CAG), Vol. I: In Aristotelis Metaphysica Commentaria. Ed. M. Hayduck. Berlin: Reimer, 1891. (Важнейший древний комментарий).
6. Лосев, Алексей Фёдорович. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. Т. IV. М.: "Искусство", 1975. (Глубокий анализ метафизики Аристотеля в контексте его философии).
7. Лосев, Алексей Фёдорович. Очерки античного символизма и мифологии. М.: "Мысль", 1993. (Содержит анализ Аристотелевского понимания числа).
8. Бугай, Дмитрий Владимирович (пер., комм.). Аристотель. Метафизика. М.: "Академический проект", 2022. (Современный русский перевод с подробными комментариями, учитывающими достижения зарубежной и отечественной науки).
9. Thomas Aquinas. In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio. Ed. M.-R. Cathala & R. M. Spiazzi. Torino: Marietti, 1950. (Классический средневековый комментарий, повлиявший на всю западную традицию).
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе