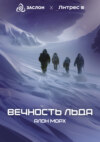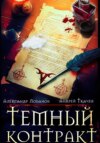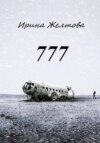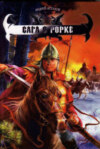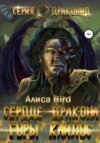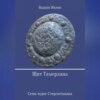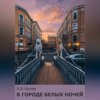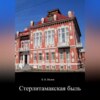Читать книгу: «В городе белых ночей», страница 6
Быт и удобства в «Десятке» были делом второстепенным. Самым главным было общение, социализация и марьяжные контакты.
Уже в те годы наблюдалась некоторая демократизация студенческой жизни с элементами самоуправления. В этой связи вспоминается мне один яркий персонаж, некая Мери, (так было в её документе "Пропуск"). Родом она была из Феодосии, фамилию имела ещё более редкую, чем имя: Сикавина. Что-то инфернальное было в её поведении. Бойкая особа с рыжими волосами и золотыми фиксами, несколько потрёпанная жизнью, почему-то всегда в халатике (так вспоминается) занимала пост председателя студсовета, т.е. общественной организации, управлявшей общагой. Чтобы получить вожделенный пост и четырехместную отдельную комнату, где сиротливо стояла одна кровать, пробивная Мери каким-то образом подвинула предыдущего председателя, Ахмеда Ю., который в итоге был вынужден перебраться в аспирантскую общагу по соседству. Интрига была в дополнительных возможностях по управлению жилым фондом.
Какие у нас с ней были столкновения, точно не помню, скорее всего связанные с так называемыми рейдами по санитарному состоянию комнат и общей хамоватостью мадам Мери. Женская часть нашей коммуны её тихо ненавидела.
Так вот, зимой 1976 года объявляются очередные перевыборы студсовета. Всей нашей комнатой, пять человек, мы являемся на мероприятие. Всё идёт по накатанной колее, представитель деканата хвалит Мери и выдвигает её на очередной срок в председатели. И тут мы, молодые радикалы, выступаем против, поднимаем бучу и проваливаем кандидатуру! Никто, включая представителя деканата, такого не ожидал и не были готовы к противодействию.
Мне до сих пор жаль Мери, для неё это был удар, истерика, сопли. Но без неё у руля жить стало всё-таки полегче и спокойнее.
Случаев посещения нашей общаги высоким начальством не припомню. Был один эпизод, но, скорее, комический.
Конец мая (начало июня) 1976 года. «Десятка», один из верхних этажей, окна на стороне входа. Общага опустела, большинство обитателей разъехались в основном на практику. Мы ждём отправки на зональную практику. Вроде трое нас было. Сидим тихо на кроватях, никого не трогаем, даже не курим, наслаждаемся солнечным днём.
Вдруг дверь распахивается, влетает сильно возбуждённый дяденька спортивного сложения, в костюме, командирским голосом кричит: "Встать, не двигаться!" Встали, не двигаемся, всё-таки это был 1976-й, а не 2016-й.
Дяденька подбегает к раскрытому окну, высовывается, смотрит вниз и кричит кому-то: "Точно, отсюда стреляли!" После этого начинает обыскивать помещение, что много времени не заняло, ибо в нём было шаром покати, при этом злорадно приговаривая: "Ну, студенты, доигрались, отдайте оружие по-хорошему!" Мы, конечно, ничего не понимаем, молчим. Дяденька этапирует нас на выход, к машине (возможно, милицейский бобик, точно не помню) и нас везут в отделение милиции в Мартышкино.
По всем правилам оперативной работы вызывают по одному к следаку. Вопрос: "Где ты был в такое-то время?" "В комнате". "Кто был с тобой?" "Такие-то". "Что слышал, что видел?". "Ничего".
Оказалось, что в тот день на встречу с советскими студентами прибыл высокопоставленный партийный или советский работник на чёрной "Волге", которую поставили прямо перед входом в общагу. Кто-то засветил чем-то в лобовое стекло, получилась дырка. Террористический акт! Нападение на власть! Для такой реакции были некоторые основания, ибо за два года до этого в Петергофе действовала банда Балановского-Зеленкова, состоявшая из студентов юридического факультета ЛГУ, они убили часового и завладели автоматом. Банду ликвидировали осенью 1974 года. Через год нападение банды на часового воинской части в Мулино. Беспрецедентное прочёсывание с целью поимки проводилось на обширной территории Ленинграда и области. Когда студенты спешили на электричку, приходилось предъявлять документы (студбилет, как правило) патрулю у входа на платформу. В мае следующего года проверка в общежитиях. Зеленков "Десятку" посещал, вроде бы, обучался на так называемом рабфаке, периодически заходил в гости. Вахтёрши, в частности строгая и неподкупная Валентина Фёдоровна Картошкина, его хорошо помнила.
Вспоминая жизнь в общежитии, невозможно не упомянуть его коменданта, Колю Смирнова.
Вот воспоминание о нём моего однокашника Олега Бычкова:
«Высокий, светловолосый, но уже лысоватый, он слегка сутулился, скорее по привычке, и был приветливо и как-то слегка отрешённо улыбчив. Схожую улыбку я позже наблюдал на изображении Будды. Пить с ним было легко и спокойно. Правду говорят, хочешь узнать человека, посмотри на него в пьяном виде. Постепенно Коля раскрывался, причём часто это происходило во время обычного общения. Помню забавный эпизод: угостил его сигарой, аромат стоял на полобщаги. Кочерыжка сигары как переходящий кубок попадалась у совершенно незнакомых мне парней.
У Коли, как выяснилось, была непростая судьба. Призывался с Красноярска, служить попал на флот. Учебку проходил на Балтике, с Петергофом познакомился задолго до нашего появления в этих местах. Продолжал службу на ТОФ, на АПЛ. Служба эта здоровья не прибавляет. Лодка попала в аварию, произошла утечка. Коля очнулся уже госпитале, долго смотрел в белый потолок и не мог понять, где он находится, поскольку вид перед его глазами, перед тем как он потерял сознание, был совсем другим. При облучении самым эффективным средством на тот момент, как популярно объяснили ему врачи, был алкоголь. Николай оклемался и поступил учиться в ЛГУ на юридический факультет. На всех факультетах у меня были если не друзья, то хорошие приятели, а вот с юристами я как-то не пересекался и душа особо не лежала, как сказали бы в наше время молодые ребята современным языком, "мутные" они какие-то были. Коля был студентом юрфака со свободным посещением, наблюдался в госпитале, получал военную «пенсюшку». Однажды зимним днём мы повстречались у входа в университетскую поликлинику. Выглядел он неважно, в ответ на моё предложение помочь он объяснил, что надо попасть к врачу, а там его отправят в больницу. Как оказалось, его, что называется, "замели", поскольку он был в состоянии алкогольного опьянения. В те времена автозаки с надписью по борту "Специальная медицинская помощь" в народе метко прозвали "хмелеуборочными комбайнами". Ходили убедительные слухи, что сверху им спускается план на количество задержанных в нетрезвом виде, поэтому хватают при случае кого попало и сколько надо. Коля попытался предложить из того, что у него было ценного, попутно попросив, чтобы только не били по голове. "Стражи порядка" сделали точно наоборот: целили по большей части именно по голове, которая была, что называется, "слабым местом". Дальше события пошли своим чередом: Колю парализовало, в госпитале его лечили, он встал на ноги во многом благодаря экзотической тогда иглотерапии. После выписки его перевели на заочное отделение, жить он остался в "Десятке", По прошествии некоторого времени ему поступило предложение стать комендантом общежития номер 10, от которого было трудно отказаться. Во многом мы именно ему обязаны тому духу "Десятки", которую мы любим и помним. С годами это понимается лучше и чётче.
Просьба ко всем, кто его помнит и знает, дописать биографию этого замечательного человека. Добавить могу лишь, что наш комендант женился на девушке из Сибири (училась у нас на биолого-почвенном), у них родился сын. Вот такая судьба у нашего коменданта, можно сказать, легенды нашей общаги.»
От себя добавлю короткий, но весьма красноречивый эпизод. Женился я рано, в 21 год, на студентке с нашего факультета, а в 22 года у меня родился сын. Мы пожили на съёмной квартире, очень дорогой и абсолютно пустой, всё пришлось покупать. На пятом курсе, по совету знающих людей, мы с супругой решили обосноваться в общежитии, где имели свои законные места. Оставалось только найти две «мёртвые души», что что нам удалось. Главной трудностью, как нам казалось, было получить добро коменданта, то бишь Коли Смирнова. Те же знающие люди присоветовали дать взятку. Взяток я до этого никогда в жизни не давал (так же, как и после этого). Положил сто рублей в конверт и вручил его Коле со словами «Вам письмо». Коля с недоумением заглянул в конверт и стремительно возвратил его мне со словами «Комната нужна, так и скажи, вот этого не надо». Комнату мы получили.
Резюме:
Общежитие «Десятка» в 1970-х была местом безопасным, приличным, тихим, образцом лучших качеств быта советского студенчества эпохи развитого социализма. При этом совсем не скучным, при полном отсутствии элементов индустрии развлечений студенты активно развлекали сами себя и друг друга, от скуки не страдали. В реалиях советской власти моё общежитское житие можно было назвать вольным и безпечальным, к тому же весьма недорогим. По сути, всё было безплатным, какие-то смешные копейки, что мы платили, имели символичный характер. Особенности расположения, удалённость от соблазнов большого города предоставляли уникальную возможность отрешения от суеты и подконтрольности всем того желающим. Я встречал студентов, которые всегда спали, бодрствующими я их не видел. Современные студенты такого даже представить себе не могут, что возможно уединение без изоляции, когда ни родители, ни друзья, никто-никто тебя не может побеспокоить. До начала эры компьютеров и сотовой связи оставалось двадцать лет. Воспоминания о тех благословенных днях в добром Старом Петергофе у меня самые тёплые.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
После моего успешного завершения курса обучения в Ленинградском государственном университете и прохождения военных сборов, мне выдали диплом, присвоили звание лейтенанта артиллерии в запасе, и осенью 1979-го я приступил к работе в Ленинградском областном государственном проектном институте Севзапгипрозем, в должности инженера-почвоведа. Отдел наш размещался на втором этаже трёхэтажного здания по адресу: Исаакиевская площадь, 4, на восточном краю площади, у памятника императору Николаю I. До революции это здание принадлежало Министерству земледелия. При советской власти здание занимала академия ВАСХНИИЛ, в нём до ареста работал президент академии Николай Вавилов. Здание хорошо сохранилось, вплоть до бронзовых дверных ручек и работающего с шумом и грохотом дореволюционного лифта.
Устройство нашего отдела, по-видимому, также сохранялось с тех времён, ведь изыскательские партии всегда консервативны. Спартанская обстановка, ничего лишнего, никаких портретов и украшений. Канцелярские столы стояли в три ряда в ширину и четыре в глубину. В последнем ряду, вдоль глухой стены, сидели – по центру начальник отдела, по правую и левую руку – начальники отрядов. Они наблюдали за подчинёнными. Большая комната была проходной в маленькую, женскую комнату, где уютно помещались наиболее опытные, немолодые сотрудницы, занимавшиеся расчётами. Окна выходили юг, с прекрасным видом на Мойку и Синий мост, за которым высился Мариинский дворец. В подвале здания работала лаборатория. Высокое начальство наш отдел никогда не посещало, работали тихо, по-семейному, без напряга, выполняли и перевыполняли взятые на себя социалистические обязательства. Работа нашего отдела делилась на два сезона: летний полевой и зимний камеральный.
В первый год работы я ещё застал счёты и арифмометры, которые вскоре были заменены калькуляторами. Отчёты писали от руки и отдавали в печать машинисткам. Оригиналы карт вычерчивали стальными перьями и тушью, работа утомительная и для зрения не очень полезная. Никто не унывал, ибо корпеть в четырёх стенах предстояло только до весны, в апреле долгая и мрачная ленинградская зима заканчивалась и начиналась жизнь радостная, привольная, полная приключений. Большую часть года, с мая по ноябрь, мы проводили на свежем воздухе, в экспедициях.
1980-й для меня стал первым полным годом моей новой работы. Это событие было волнительным, а тут ещё нагрянула первая в России летняя Олимпиада.
Ленинград стал олимпийским городом. Кроме Москвы, соревнования проходили в Ленинграде, Таллине, Киеве и Минске. Таллинские власти «подсуетились» больше всех и им досталась парусная регата, все олимпийские соревнования по парусному спорту, с церемонией награждения победителей на месте. Ленинградские власти оказались менее расторопными и получили только предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира.
Важным политическим обстоятельством было то, что в своё время генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза Никита Хрущёв официально заявил, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме, когда "от каждого по способностям и каждому по потребностям", другими словами, в обществе изобилия, всеобщего равенства и счастья. Таким образом 1980 год стал экзаменационным годом для всей правящей коммунистической партии, а приехавшие на олимпиаду иностранцы – экзаменаторами. Посему партийные функционеры готовы были в лепёшку расшибиться, но провести олимпиаду на высшем уровне.
Полевой период у нас начинался в мае. Открытие Олимпиады было назначено на 19 июля.
Как молодому специалисту, мне крупно повезло. Практически безграничное финансирование государственных программ, направленных на освоение новых и восстановление заброшенных земель, позволило в то время приступить к масштабному, не имеющему аналогов в отечественной истории изучению природных богатств государственного лесного фонда. Ленинградская область финансировалась особенно щедро. Наша задача состояла в изучении, описании и картировании земель, покрытых лесами и болотами, а также заброшенных, заросших лесом и кустарником, бывших сельхозугодий, которые выпали из оборота после 1861-го, 1941-го и 1961-го годов. Наш институт выполнял геологическое, геоботаническое и почвенное обследование сотен тысяч гектаров земель, большая часть которых до нас не обследовалась никогда.
Картирование очень близко к священнодействию, потому что оно сохраняет память и никому не ведомо, кто, когда и для чего использует составленную вами карту. Профессионально исполненная, на основе полевых работ, карта несёт на себе море полезной информации о нашем бренном мiре, полный объём которой понятен только специалистам.
Первым моим объектом стал Ломоносовский район Ленинградской области. Район интересный, приморский, создаёт приподнятое настроение. Он вытянут с востока на запад вдоль южного побережья Финского залива, на востоке граничит с Ленинградом, а на западе – с Эстонией.
Наша полевая база находилась в деревне Лопухинка. Место живописное, знаменитое своими радоновыми источниками и озёрами. Здесь выходят на поверхность земли радоновые родники, которые формируют водоток реки Лопухинка. В результате слияния родников образуется каньонная долина глубиной до 30 метров. Вода в озерах и родниках считается целебной, так как в ней высокое содержание радона, и мы эту возможность не упускали.
Поскольку Ломоносовский район был пригородным, на выходные мы возвращались в Ленинград. Примерно за месяц до начала Олимпиады город начал сильно преображаться, очищаться и прихорашиваться. Резко ограничили движение транзитного транспорта. Нас это не касалось, поскольку наш отдел располагался на Исаакиевской площади, в здании ВАСХНИЛа, и наш УАЗик имел пропуск Леноблисполкома.
В олимпийском городе Ленинграде навели образцовый порядок. Исчезли с глаз долой все "антисоциальные элементы", в том числе и легендарные ленинградские гопники, которых до этого никто не мог приструнить, даже Сталин. Потёртые, пьяные, шумные и весьма колоритные личности в компании развязных, причудливо одетых дам, уже не топтались в подворотнях и не тёрлись возле рюмочных.
В дни Олимпиады автомобилям очень трудно было проехать в центр города. Невский проспект, мосты через Неву были непривычно пустыми. Запомнилось обилие флагов, транспарантов, плакатов и прекрасная, солнечная погода, что для Ленинграда большая редкость.
Впрочем, об Олимпиаде 1980 уже написано предостаточно, добавлю лишь интересные, малоизвестные подробности событий, как забавных, так и трагических, свидетелем которых мне довелось стать.
Единственной олимпийской трассой на территории Ленинградской области было Таллинское шоссе, связавшее олимпийские города Ленинград и Таллин. Для нашей экспедиции Таллинское шоссе было основной трассой, по которой мы ежедневно выезжали на маршрут и возвращались на базу.
Магистраль в те времена была не ахти какая, но по случаю Олимпиады её привели в относительный порядок. Неказистые строения и руины, мозолившие глаз проезжавших, убрали. Бурьян и кустарник по обочинам выкосили и вырубили, запретили стихийные торговые точки. Невиданным до того новшеством стали придорожные кафе с полным самообслуживанием, чистые, светлые, вполне цивильные. В них я впервые в жизни увидел и попробовал чай и кофе в пакетиках, одноразовую посуду и столовые приборы. До этого не заваренный, а сваренный чай в заведениях общепита разливали исключительно из громадных титанов.
Но самым интересным было зрелище «потёмкинских деревень». Как известно, русские деревни всегда строились линейно, дома вытягивались вдоль берега реки или проезжей дороги. Соответственно, по обеим сторонам Таллинского шоссе тянулись одноэтажные дома, точнее избы, в большинстве своём деревянные. Со стороны проезжавших на большой скорости наблюдателей они выглядели весьма прилично, со свежеокрашенными яркими красками фасадами, крышами и заборчиками.
В один прекрасный день мы остановились в одной из таких деревень, чтобы набрать воды из колодца. Я решил пройтись. Поравнявшись с одним из домов, я замер от неожиданности. Потемневший, не в очень хорошей форме сруб был прикрыт декоративным фасадом, несколько большим, чем настоящий фасад. Декорация была укреплена распорками. Именно этот нарядный фасад был виден со стороны шоссе. Вот так я совершил короткую экскурсию во времена царствования Екатерины II. Русский народ изменить не так просто.
В то же олимпийское лето мне довелось столкнуться с ещё одним событием, напрямую вроде как и не связанным с Олимпиадой, но, если подумать, весьма глубокая связь очевидна.
Вторым нашим объектом стал Кировский район Ленинградской области, простирающийся к югу от Ладожского озера. Район этот знаменит прежде всего памятниками и местами воинской славы: Шлиссельбургская крепость, Невский пятачок, Ивановский пятачок, Синявинские высоты и Синявинские болота.
Близкий к Ленинграду, пригородный Кировский район поразил меня своей довольно дикой природой. Пройдя несколько сотен километров пеших маршрутов по его лесам и болотам, я ни разу не встретил человека. Кроме того, я заметил, по следам, что за мною несколько дней скрытно следовал медведь, из любопытства, конечно.
Известен был Кировский район и тем, что в его пределах регулярно находили неразорвавшиеся бомбы, снаряды и боеприпасы. Помню чуть ли не ежедневные в летний сезон заметки в областных газетах, типа: «Грибники в Кировском районе решили сделать привал, развели костёр. Последовал взрыв. Прибывшие на место сапёры обнаружили склад боеприпасов». Трактористы отказывались обрабатывать некоторые поля, ибо неразорвавшиеся бомбы и снаряды на них встречались так же часто, как и камни. (Подрывы механизаторов на полях Кировского района случались до конца 1980-х).
Причина такого тяжёлого наследия войны в том, что из пяти попыток прорыва Ленинградской блокады четыре случились на территории Кировского района, на участке шириной всего 16 км. Немцы называли его Бутылочным горлом, а русские – Шлиссельбургско-Синявинским выступом. Непосредственное боевое соприкосновение войск здесь происходило на участке шириной всего 3 км, с небольшими подвижками то в одну, то в другую сторону. Здесь воевало народное ополчение, цвет Ленинграда, здесь они и лежат. Накал и ожесточение боёв на этом маленьком участке не имеет аналогов в истории человечества. 14 января 1943 года именно в районе Синявинских болот был впервые подбит и захвачен советскими войсками тяжелый немецкий танк «Тигр» Т-VI.
Читатель наверняка спросит: “А при чём здесь Олимпиада 1980? Где связь?” Объясняю.
Память о Великой Отечественной вещь настолько серьёзная, что может проявляться самым необычным образом, в самое неожиданное время.
Такое уже случилось в 1955-м, в Москве, где на стадионе “Динамо” сошлись в схватке сборные футболистов СССР и Западной Германии. В то время руководству СССР позарез нужно было как-то улучшить отношения с Германией. Матч был предельно политизированным и задуман как демонстрация хороших отношений и всепрощения. Членам сборной Германии, до начала матча, прямо на поле, вручили букеты цветов. Но тут случилось непредвиденное. Со всей Москвы к стадиону стали прибывать бывшие солдаты ВОВ, калеки, без ног, без рук, на дощечках с шарикоподшипниками. Билетов у них не было, но не пустить их на стадион контролёры и охрана просто не могли. Молодые солдаты на руках внесли ветеранов и рассадили по краю поля. Матч сразу приобрёл совсем другое значение. Русские его выиграли.
Первый же день моей полевой работы в Кировском районе оказался более чем интересным. Работали мы так: на машине подъезжали к началу пешего маршрута, далее шли в разные стороны, по одиночке, по лесной дороге или тропинке, время от времени отходя в стороны, чтобы заложить шурф или разрез и взять образцы.
На первых метрах первого же захода в лес мне сразу бросилась в глаза раскуроченная рация. Дальше – воронка с грудой металла на дне, то тут, то там – каски, котелки, фрагменты костей. В сосновых лесах на песках травяной покров редкий и невысокий, посторонние предметы хорошо видны. Я ничего не трогал. По рассказам грибников, многие годы в некоторых местах Синявинских высот грибов не было видно под сплошным ковром человеческих костей, ботинок, остатков шинелей, телогреек и прочего военного скарба. Аналогичную картину мне позже довелось наблюдать на Невском пятачке и на Зеленецких островах в Ладожском озере, где невозможно было воткнуть лопату в землю, так она была нашпигована осколками бомб и снарядов. А наши бойцы держали в этих местах оборону несколько лет.
Углубившись почти на сотню метров, я остановился как вкопанный – передо мной из земли торчал хвост самолёта Мессершмитт, обломок ростом выше меня, неплохо сохранившийся, с крестом на руле. Не по себе мне стало, я развернулся, пошёл назад, к дороге. Разрезы и шурфы копал только в случае крайней необходимости, тщательно изучая каждый сантиметр земли перед тем, как копнуть.
Так состоялось моё знакомство с Синявинскими высотами.
Навсегда врезался в память день, когда я вышел на границу высот с Синявинскими болотами. Маршрут пролегал по лесной дороге, сухой, в отличном состоянии, на песках. День был тёплый, шагалось легко. Двигался я в южном направлении, сквозь сосновый лесок.
По краям дороги шли глубокие придорожные канавы. Краем глаза я заметил в них что-то необычное. Подошёл к канаве и увидел, что дно канавы на всём видимом протяжении густо покрыто костями в хорошем состоянии, видно было, что на открытом воздухе они лежат недавно. Некоторые из костей были необычно крупными. Лошадиные? Присмотрелся внимательнее – пожалуй человеческие, берцовые кости великанов. Попадались и черепа, молодых людей, с удивительно хорошими зубами.
Раздумывая об этом, я зашагал дальше. По краям дороги, в развороченном песке, стали попадаться присыпанные песком кожаные сапоги, остатки полевых сумок, обмундирования, всё в прекрасной сохранности. Значит, лежали в сухом песке. Кто их выкопал и зачем?
Перпендикулярно к дороге, справа и слева, густо пошли остатки оборонительных сооружений – траншеи, блиндажи, укрытия, ряды колючей проволоки на столбах, все практически в рабочем состоянии. В какой-то момент картина стала настолько чёткой, что возникло ощущение, что это настоящая война, что сейчас я увижу солдат, услышу звуки выстрелов и разрывов. Когда я вышел на край высот, моему взору открылся безкрайний ковёр верхового болота с редкими кустиками и чахлыми деревцами, простирающийся до самого горизонта.
Вот по этому гиблому болоту, на протяжении более трёх лет, ежедневно прорывались под вражеским огнём, ползли, тащили на себе технику, орудия и снаряды наши солдаты, шли на штурм Синявинских высот, где засели отборные гитлеровские войска. Максимальная высота Синявинских высот всего 30-40 м, но в условиях Приладожья, с его ровным как стол рельефом, даже 20 м возвышенности давали огромное преимущество занимавшим их войскам.
Склон высоты, сбегающий к болоту, производил дикое впечатление: везде, насколько хватало глаз, земля была вздыблена, перекопана и вывернута наизнанку. Когда-то здесь стояла дивизия СС «Полицай», которую сами же немцы прозвали «дивизией дубовых крестов». В Синявине ее перемололи полностью, только за два месяца боев дивизия потеряла половину списочного состава. Вот и объяснение феномену необычно больших костей – известно, что в войска СС набирали самых рослых.
Пока я обозревал просторы Синявинских болот, задул южный ветер, низкие свинцовые облака устремились к Синявинским высотам, двигались прямо на меня, очень низко. Никогда не забуду душевного состояния печали, тревожного проникновения в прошлое, которое я тогда испытал. Ощущение было такое, что я нахожусь в абсолютном одиночестве, в ином, потустороннем мiре.
Позже выяснилось, что в ходе подготовки к Олимпиаде пытались облагородить воинские захоронения, в том числе и немецкие, на случай если гости Олимпиады из Германии попытаются их осмотреть. Времени и средств не хватило, посему было принято простое решение – немецкие воинские кладбища заровнять бульдозером, и концы в воду.
До 1980 года в нашем народе ещё сохранялось уважение к кладбищам, пусть и немецким, некоторый подспудный, неосознанно религиозный страх перед мертвецами. Массовые раскопки не велись. Но когда люди увидели бульдозеры на кладбищах, они восприняли это как сигнал, что теперь всё можно. «Чёрные копатели», ничтоже сумняшеся, ничтоже бояшеся, развернули поиски артефактов, оружия, наград, драгметаллов.
Много лет спустя мне довелось беседовать с одним из таких копателей. Он похвастался накопанными артефактами. Одних серебряных эсэсовских перстней с черепами у него было два больших чемодана, также оружие всех видов. Особенно любопытными для меня были подлинные документы, в частности штаба 2-й ударной армии, приказы, подписанные генералом Власовым. Как объяснить то, что советская власть всем этим не занималась, почему отдали раскопки на поток и разграбление чёрным копателям?
Именно на эти раскопки я и натолкнулся на Синявинских высотах в 1980 году. Размах раскопок был настолько велик, что получил широкую огласку в СССР и за рубежом. Постановлением Совета Министров РСФСР от 1982 года, Синявинские высоты были объявлены мемориальной зоной, где любая деятельность, связанная с раскопками, была запрещена. Постановление это действительно и до сего дня.
Организованные, официальные поиски и захоронения павших солдат на территории Кировского района начались только в 1990-х, по личной инициативе поисковиков, на безвозмездной основе.
А в дни Олимпиады 1980, когда мы радовались спортивным достижениям наших спортсменов, умилялись олимпийскому мишке, взмывшему в небо, сотни тысяч наших бойцов лежали, безымянные и непогребённые по-людски, по лесам и болотам Кировского района. Никто не забыт, и ничто не забыто. Поисковики работают и по сей день, конца их работе не видно.
По молодости и глупости, я собирался прихватить из Кировской экспедиции на память эсэсовскую каску, штык-нож и другие найденные занятные артефакты, но ничего не прихватил, оставил на месте, хватило на это ума.
* * *
Объявленный Джимми Картером бойкот Московской олимпиады 1980 года окончательно развеял все надежды на возрождение высоких олимпийских идеалов. Грубо, неприкрыто политизированное псевдоолимпийское движение превратили в мошенническое коммерческое шоу по правилам сильного. 1980 год не стал олимпийским годом мира, добрососедства и сотрудничества ради всеобщего блага человечества, эйфория 1970-х испарилась. В 1980 году были убиты две выдающиеся личности, последние неустрашимые носители духа Истины, известные всему мiру пророки, которым народы доверяли безгранично, хранители великой тайны, Владимир Высоцкий и Джон Леннон. Абсолютное зло поднимало голову и готовилось к решающей битве.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе