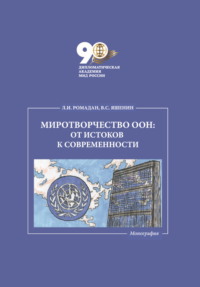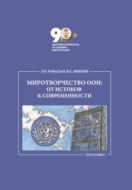Читать книгу: «Миротворчество ООН: от истоков к современности», страница 2
Либерализм и неолиберализм
Уходя корнями в экономические учения XIX века (теорию невмешательства государства в экономику), либерализм является одной из ведущих теоретических школ изучения международных отношений. Основоположниками данной парадигмы принято считать А. Смита, Дж. Ст. Милля. По мнению сторонников либеральной школы, порядок в межгосударственном сотрудничестве возникает только в случае взаимодействия между информированными участниками этого процесса.
Либералы полагают, что в основе межгосударственного сотрудничества лежат экономические интересы сторон. Международная система представляется как упорядоченный конструктор, в котором отсутствие координирующего элемента в виде мирового правительства не мешает взаимодействию акторов. При этом конфликт рассматривается как временное отклонение от мирного состояния системы.
Среди основных теоретических течений либерализма в указанный период выделяют: торговый либерализм (представители: Р. Кобден и Дж. Брайт; основной тезис – торговля между государствами способствует развитию межгосударственного сотрудничества); демократический структурный либерализм (И. Кант и В. Вильсон, взаимодействие осуществляется эффективнее между демократическими государствами).
Помимо этого, в рамках либеральной традиции продолжалось развитие концепции «коллективной безопасности», ставшей теоретическим фундаментом международных институтов (таких как ООН), отвечающих за поддержание стабильности и мира.
В целом стоит отметить, что в XIX–XX веках либеральная школа рассматривала сторонников реализма в качестве конкурентов. В отличие от реалистов либералы фокусируются на роли международных институтов, которые оказывают влияние на поведение государств, способствуют эффективному сотрудничеству между ними.
Однако, несмотря на, казалось бы, диаметральные взгляды на природу международных отношений, реализм и либерализм имеют точки соприкосновения. Во-первых, последователи этих школ считают, что в настоящее время не существует единой признанной системы права, обязывающей международных акторов к принудительному исполнению решений. Действительно, резолюции ООН носят рекомендательный характер, и акторы международных отношений самостоятельно принимают окончательное решение по тем или иным вопросам. Во-вторых, реалисты и либералы отмечают, что участники международных отношений зачастую действуют рационально.
Исследователь Э. Макгру синтезировал положения двух теоретических школ и выдвинул предположение о том, что создание ООН отражает попытки США как либерального гегемона установить демократический миропорядок21. С одной стороны, данный подход подразумевает распространение западных ценностей и капитализма, с другой – подтверждает тезис реалистов о существовании международного механизма управления как инструмента реализации национальных интересов доминирующего актора. В свою очередь, В.К. Белозёров и А.В. Соловьев отмечают, что «доктринальные документы США 2015 г. (Стратегия национальной безопасности и Национальная военная стратегия) хорошо отражают экспансионистскую позицию США на мировой арене, их желание во что бы то ни стало сохранить однополярную систему международных отношений»22.
Вместе с тем исследователь Р. Кеохейн, признавая США гегемоном в современной системе международных отношений, не согласен с тезисом о том, что международное взаимодействие объясняется исключительно лидерством США. Истинной причиной межгосударственной кооперации, по мнению исследователя, является наличие конфликта. В то же время международные институты не расшатывают власть государств, а скорее наделяют их большей властью23, поскольку участие в деятельности международных организаций представляется выгодным для самих членов.
В 1980-е годы сформировалась школа неолиберализма, в рамках которой выделяют самостоятельные направления. В их число входят теория комплексной взаимозависимости (Р. Кеохейн, Дж. Най: наличие в мире множества каналов связи, через которые формируется политика); теория международных режимов (С. Краснер, Р. Кеохейн: исследуют международные институты, режимы в области мировой торговли и финансов); теория демократического мира (М. Дойль, Б. Рассетт: демократические государства не воюют друг с другом).
Либеральный институционализм
Впервые процесс управления за рамками суверенных государств, а также феномен глобального управления в целом были проанализированы представителями школы либерального институционализма.
До 1980-х годов сформировались три направления либерального институционализма: функциональная теория интеграции (Д. Митрани, Э. Хаас)24, неофункциональная теория региональной интеграции (Э. Хаас) 25 и теория взаимозависимости (Р. Кеохейн и Дж. Най)26.
Сторонники либерального институционализма считают, что международные институты (такие как ООН) в целом способствуют развитию межгосударственного сотрудничества. Сравнивая данный подход с реализмом и классическим либерализмом, стоит подчеркнуть, что эта концепция дает более оптимистичные прогнозы будущего международных отношений. Помимо этого, либеральные институционалисты (в отличие от реалистов) иначе подходят к определению субъектов международных отношений: по мнению приверженцев функциональной теории интеграции, новые акторы международных отношений – специализированные международные агентства; для неофункционалистов – это трудовые союзы, политические партии; для сторонников теории взаимозависимости – транснациональные корпорации и межгосударственные коалиции.
В целом, согласно положениям школы либерального институционализма, государства (как акторы международных отношений) все больше расценивают друг друга в качестве партнеров, способных совместно добиваться более комфортных условий для развития. Преодолеть анархию и недопонимание призваны международные институты, которые, по мнению Р. Кеохейна, представляют собой систему формальных и неформальных правил, предписывающих государствам приемлемое поведение и формирующих ожидания27.
Представители школы либерального институционализма имеют диаметрально противоположное (относительно реалистов) мнение о роли институтов в международных отношениях. Функционалисты полагают, что специализированные агентства могут быть площадкой для налаживания сотрудничества без угрозы потери суверенитета государств. С точки зрения неофункционалистов, такие наднациональные структуры, как ЕЭС (ныне ЕС), стали подходящим региональным аналогом национальному государству, которое не было способно обеспечить благосостояние в рамках своих узких границ. По мнению сторонников теории взаимозависимости, роль международных институтов в торговле существенно возросла28.
В период холодной войны школа либерализма переживала кризис в связи с прецедентами военного вмешательства в ряд конфликтов на Африканском континенте, в Центральной Америке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, что во многом подтверждало центральный тезис реалистской школы о превалировании военной силы на мировой арене. Данное обстоятельство стало толчком к эволюции либеральной школы международных отношений.
Неолиберальный институционализм
Сторонники данного теоретического направления, среди которых Р. Кеохейн, Р. Аксельрод, А. Штейн29, в целом разделяют мнение реалистов о роли государств и природе международных отношений. Р. Аксельрод и Р. Кеохейн обращают внимание на «отсутствие общего правительства по навязыванию правил и слабость международных институтов»30. В то же время неолиберальные институционалисты склонны рассматривать международные институты как результат рациональной деятельности государств, реализующих общие интересы ради общей выгоды.
Автор термина «неолиберальный институционализм» Р. Кеохейн, несмотря на то что в своих работах описывал скорее развитие чисто неолиберального направления, решил обособить данный теоретический подход. Исследователь выделил такие институты, как формальные организации, режимы и неформальные институты, отметив, что все они – совокупность устойчивых и взаимосвязанных правил, предписывающих роли акторов и структурирующих их деятельность и ожидания. В основе концепции лежит тезис о том, что институты способны оказывать воздействие на поведенческую линию государств и стать площадкой для выстраивания сотрудничества в анархичной природе международных отношений. Помимо этого, исследователь предложил модель транснациональных отношений, элементами которой являются не только государства, но и негосударственные акторы.
Неолиберальный институционализм исходит из того, что анархия на мировой арене препятствует развитию международного сотрудничества. Однако государства способны к консолидации в рамках международных институтов для решения глобальных проблем, затрагивающих участников международных отношений. Данное положение тесно переплетается с реформистским глобализмом. Согласно этой теории, феномен всемирной взаимозависимости меняет сущность системы международных отношений. Впоследствии термин «глобализация» сменил употребляемое ранее слово «взаимозависимость». В этом контексте таким глобальным институтам, как ООН, отводится роль важнейших регулирующих механизмов. При этом глобалисты допускают делегирование государственного суверенитета международным институтам. Так, в докладе «Наше глобальное соседство» предлагается расширить полномочия Генерального секретаря ООН и трансформировать миротворческие контингенты ООН в полноценную армию31.
По мнению А.И. Никитина, в случае признания глобализации в качестве положительного фактора, оказывающего влияние на систему международных отношений, миротворческие операции могут рассматриваться как «форма выявления, согласования и реализации политической воли мирового сообщества в качестве нетрадиционного субъекта международных отношений» 32. Иными словами, исследователь переносит феномен миротворчества в иное теоретическое измерение и допускает, что ОПМ превратятся в инструменты реализации интересов «новых» субъектов международных отношений (международных институтов).
Неоинституционализм
В 1970-80-е годы формируются основные положения неоинституционализма. Интерес к развитию данного теоретического направления объясняется тем, что начиная с 1980-х годов институты вступили в период «нового открытия»33. Сторонники нового институционализма подчеркивают возросшую автономность институтов. С.В. Патрушев отмечает, что одной из специфических черт неоинституционализма является анализ институтов сквозь призму переплетения норм и неформальных правил игры, образующих в итоге комплексные взаимосвязи и уровни отношений34. Примером служит взаимодействие стран – членов ООН в рамках миротворческих операций.
Сегодня дискурс о принципах институционализма и неоинституционализма особенно актуален при обсуждении системных и структурных реформ институтов глобального управления, международных межправительственных организаций и региональных интеграционных объединений. В данном контексте наиболее острым вопросом является реформа ООН, поскольку данная Организация представляет собой центральную площадку взаимодействия акторов на международной арене.
Неоинституционалисты полагают, что политические институты можно модифицировать для более справедливого функционирования35. По этой причине логично предположить, что именно теоретики неоинституционализма вдохновили инициаторов реформ в ООН, начатых в 1997 году с реформы Секретариата. В частности, был образован Департамент по разоружению, а также была введена должность первого заместителя Генерального секретаря ООН. В 2005 году была учреждена Комиссия по миростроительству. В 2006 году был создан Фонд миростроительства, в задачи которого вошла финансовая помощь государствам по постконфликтному восстановлению.
С 2006 по 2017 год Фонд выделил порядка 772 млн долл. США для 41 страны-получателя36.
В 2006 году реформы коснулись Комиссии ООН по правам человека, которую заменил более компактный и наделенный большими полномочиями Совет по правам человека37. В 2007 году был образован Департамент полевой поддержки38 (фактически произошло разделение полномочий между двумя структурами в рамках ООН). В 2010 году была создана структура по вопросам гендерного равенства и расширения возможностей женщин – «ООН-женщины»39. В 2014 году была сформирована независимая Группа высокого уровня по операциям в пользу мира40.
Необходимость в продолжении цикла реформ ООН продиктована изменениями системы международных отношений, в частности увеличением числа государств – членов Организации (с 51 государства – в 1945 г. до 193 – в настоящее время), а также выявлением недостатков функционирования ряда структур. Вопрос о модернизации организации обсуждался как в ходе международных форумов, так и на заседаниях руководящих органов всемирной Организации.
В контексте эволюции ООН также представляется логичным тезис М.М. Лебедевой, которая отмечает, что «наднациональная политическая организация (политическая система) не является раз и навсегда заданной не только в плане конфигураций, но и с точки зрения своей основы, а также принципов организации»41.
Исследование системы международных отношений продолжилось в рамках повлиявшей на институциональный подход концепции глобального гражданского общества. Под последним понимается единство людей вне зависимости от гражданства и национальной принадлежности на основе неких общечеловеческих ценностей.
Правда, действительность нанесла серьезный удар по концепту глобального гражданского общества: войны начала XXI века, общий кризис неолиберализма и наметившийся отход от институционализации в международных отношениях. Акцент исследований в области регулирования сместился в сторону изучения «американской империи». Ряд ученых, среди которых следует выделить Н. Фергюсона42 и Ч. Джонсона43, рассматривал США в качестве современной империи. Вместе с тем с анализом американской политики с «имперской» точки зрения не согласны Б. Барбер44 и Дж. Най45. Исследователи подчеркивают невозможность следования США по имперскому пути. Сегодня становится все очевиднее правота выводов Б. Барбера и Дж. Пая, поскольку в современной системе международных отношений не может доминировать единственный актор46. По мнению М.М. Лебедевой, в настоящее время наблюдается «структурная и функциональная перестройка политического устройства современного мира»47, в ходе которой государственно-центристская система претерпевает значительную трансформацию, в частности за счет увеличения числа «невестфальских» государств.
Следовательно, трансформации подвергается и миротворчество как форма взаимодействия государств в рамках ООН, представляющая собой не пассивно-декларативную позицию субъектов, а целенаправленную деятельность участников системы международных отношений. Миротворческая деятельность стратегически ориентирована и осуществляется не спонтанно, требует определенного уровня подготовки. Стратегическая ориентированность миротворчества в современном политическом смысле отражает два фундаментальных основания, на которых базируются отношения государств на международной арене. Одним из таких оснований является факт безусловного стремления государства (в лице его правящей политической элиты) к реализации своих интересов в процессе взаимодействия с другими субъектами международной системы отношений.
Иным фундаментальным основанием миротворчества становятся усиление взаимозависимости государств, повышение роли транснациональных, негосударственных акторов, международных связей, что объективно приводит к пониманию необходимости учета общих, цивилизационных интересов. Например, совместное проведение миротворческих операций запускает, согласно теории малых дел (англ, «spill over»), процесс нормализации отношений между антагонистично настроенными игроками – накопленный эффект позитивного взаимодействия в разных сферах может помочь в решении системных проблем или, по крайней мере, подтолкнуть стороны к обсуждению проблемных узлов. Как отмечает ряд исследователей, в свою очередь, взаимодействие между субъектами миротворческих операций приводит к появлению «новой системы и новых интересов»48.
Теоретические аспекты концепта миротворчества
Для осмысления теоретических основ миротворческой деятельности ООН следует выделить ключевые термины в данной области, а также дать им определения. В Уставе ООН нет четкой трактовки понятий «миротворчество» и «миротворческая операция». С течением времени появилась необходимость в выработке общей трактовки указанных терминов, поскольку возникли прецеденты использования механизмов миротворчества в качестве ширмы для «гуманитарных интервенций».
Данный феномен был проанализирован в работах М. Барнетта и М. Финнемора, предложивших социологическую интерпретацию ошибочных действий международных организаций. Исследователи отмечают наличие групп с различными нормативными взглядами внутри крупных институтов. Такие формирования могут вступать в конфликт из-за методов реализации целей, поставленных международной организацией49. В качестве примера приводится ООН, отстаивающая принцип нейтралитета в качестве главного условия урегулирования конфликтов. Вместе с тем рядом государств продвигается концепт новой формы вмешательства – гуманитарной интервенции. В последнее время данный феномен зачастую отождествляется с процессом обеспечения безопасности, защитой прав человека, борьбой с терроризмом. Однако дискуссии по этому вопросу скорее свидетельствуют о попытке создания нового механизма реализации внешнеполитических интересов некоторых государств. Такая стратегия не предполагает восстановление политических институтов, экономики, инфраструктуры, что делает ее менее эффективной по сравнению с классическим миротворчеством. С другой стороны, исследователь Р. Кеохейн полагает, что интервенция может быть оправдана в случае массового нарушения прав человека50. С данным тезисом сложно согласиться, так как под прикрытием правозащитной риторики государства могут проводить собственную внешнеполитическую линию, при этом грубо нарушая суверенитет стран, охваченных кризисом.
Возвращаясь к анализу подходов к определению понятия «миротворчество», стоит отметить, что в период холодной войны под этим термином понималась деятельность ООН по оказанию всестороннего содействия сторонам вооруженного конфликта с целью сглаживания его последствий и урегулирования51. По сути, главная задача виделась в предотвращении разрастания локальных и региональных конфликтов до глобальных масштабов с вовлечением двух сверхдержав, что могло спровоцировать начало третьей мировой войны.
После распада биполярной системы международных отношений подходы к определению миротворчества изменились. Бывший Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали в докладе «Повестка дня для мира» охарактеризовал его как «действия, направленные на то, чтобы склонить враждующие стороны к соглашению, главным образом, с помощью таких мирных средств, которые предусмотрены в главе VI Устава ООН»52, то есть путем переговоров. Существует иное определение, предложенное в 1994 году Департаментом общественной информации ООН: «Миротворчество – деятельность по предотвращению, сдерживанию, регулированию и завершению состояния враждебности между государствами или внутри одного государства. При этом ООН на правах посредника может использовать многонациональные силы, включающие в себя военнослужащих, полицейские части и гражданских специалистов, для восстановления и поддержания мира»53. Эта формулировка свидетельствует о возрастающей роли военного компонента, который может быть использован для урегулирования в том числе внутригосударственных кризисов. При этом ряд стран коллективного Запада продвигает нарратив, согласно которому внутригосударственные кризисы способны создать существенную угрозу всей системе глобальной безопасности в случае, если они связаны с ущемлением прав человека и подрывом демократических ценностей. Характерно, что указанная логика используется этими странами исключительно при анализе конфликтов, затрагивающих их национальные интересы.
В российском научном сообществе не существует общепринятого определения понятия «миротворчество». Как правило, под этим термином подразумевается несколько видов деятельности, такие как превентивная дипломатия, непосредственно миротворчество (прямой перевод peacemaking), поддержание мира и миростроительство. В этой связи исследователь С.В. Барановский отмечает: «Русский термин «миротворчество» обозначает действия, которые могут варьироваться от политического посредничества до широкомасштабных боевых действий, направленных на установление мира с помощью силы»54.
В свою очередь, исследователь А.В. Демуренко полагает, что особый акцент необходимо сделать на субъектах и признаках миротворческой деятельности: «Миротворчество – коллективные действия международных организаций (ООН, ОБСЕ, СНГ) политического, экономического, военного и иного характера, проводимые в соответствии с нормами и принципами международного права с целью разрешения международных споров, предотвращения и прекращения вооруженных конфликтов преимущественно мирными способами»55.
Генерал-лейтенант, доктор политических наук Н.В. Стаськов описывает миротворчество как военно-политическую деятельность, осуществляемую вооруженными силами или гражданскими специалистами на основании мандата и ориентированную на предотвращение конфликтных ситуаций этнополитического характера либо их бесконфликтное урегулирование 56.
Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор политических наук В.Ф. Заемский под миротворчеством понимает комплекс мероприятий, направленных на разрешение конфликтных ситуаций и их урегулирование, включая превентивные дипломатические и иные действия, нацеленные на недопущение развития конфликта, принуждение сторон к миру и миростроительство в постконфликтный период57.
Согласно трактовке доктора политических наук А.И. Никитина, миротворческая операция – «совокупность политико-дипломатических, военных и иных форм и методов коллективных международных усилий по восстановлению международного мира и стабильности в конфликтных регионах посредством системы скоординированных мер по предотвращению, снижению остроты, разрешению, ликвидации последствий международных и немеждународных конфликтов»58.
В свою очередь, И.П. Чернобровкин указывает, что миротворческие операции под эгидой ООН, ориентированные на урегулирование этнонациональных конфликтов, являются фактами гуманитарного военного вмешательства, осуществляемого на временной основе с целью предотвращения насилия и нарушения прав человека59. Исследователь предлагает также рассмотреть в качестве инструмента «миротворчество обозримого будущего», предполагающее превентивное воздействие на ситуацию в случае наличия прогноза эскалации этнического конфликта в том или ином регионе мира. По его мнению, превентивный миротворческий контроль может осуществляться региональными организациями на основании полученного ранее мандата ООН.
В совокупности в отечественной науке под термином «миротворчество» понимается весь комплекс действий по урегулированию конфликтов, что осложняет исследование генезиса миротворческих операций. При этом в англоязычных работах имеется четкая градация различных видов миссий и операций, например: peace-keeping (поддержание мира), peace-making (установление мира), peace enforcement (принуждение к миру), peace-building (миростроительство) 60.
Выработка единого понятийного аппарата, в частности ключевых терминов, таких как «миротворчество» и «миротворческая операция», необходима, чтобы избежать ложных трактовок, например, в вопросах, связанных с видами миротворчества. Такие фальсификации, в свою очередь, ведут к манипуляции отдельных стран, которые причисляют силовые акции по принуждению к миру к формам классического миротворчества. На данную проблему обращают внимание и эксперты Специального комитета по операциям по поддержанию мира, отмечая, что «миротворческие операции приобрели более многогранный характер, поэтому для выработки общих подходов и налаживания сотрудничества требуется общее понимание терминологии»61.
В последние годы понятие «миротворческая деятельность ООН» используют для обозначения не только операций по поддержанию мира, но и миростроительной и гуманитарной деятельности данной организации.
Со своей стороны, отечественный исследователь О.О. Хохлышева дает следующую классификацию миротворческих операций: «превентивные действия (акции) по сохранению мира, операции по установлению мира, операции по поддержанию мира, операции по принуждению к миру, постконфликтное построение мира, гуманитарные акции»62.
Стоит сказать, что попытки систематизации миротворческих операций ООН предпринимались и западными аналитиками. Так, сотрудники исследовательского Центра им. Генри Л. Стимсона предлагают следующую классификацию: традиционные операции по поддержанию мира (peacekeeping), многосторонние мирные операции (multidimensional peace operations), вмешательства для предотвращения гуманитарного кризиса (humanitarian intervention), операции по принуждению к миру (peace enforcement). Примечательно, что авторы данной классификации подразумевают под многосторонними мирными операциями миссии по урегулированию конфликтов внутри государств, цель которых – политическое урегулирование, восстановление институтов демократии63.
Среди характеристик операций по принуждению к миру исследователи выделяют отсутствие согласия сторон конфликта на вмешательство, что нарушает суверенитет государства, территория которого охвачена конфликтом. В данном случае миротворцы становятся третьей стороной конфликта или присоединяются к одной из сторон, между которыми возникли противоречия. При этом зачастую происходит делегирование полномочий по проведению этих операций межгосударственным коалициям, которые возглавляют эти операции («Буря в пустыне», Сомали, Ливан, Афганистан – США; Тимор-Лешти – Австралия; Югославия – НАТО), что делает роль ООН номинальной в урегулировании конфликтов и дает карт-бланш указанным государствам на использование ооновского инструмента для реализации собственных интересов.
В связи с наличием столь разнообразных подходов у отечественных и западных исследователей к определению и классификации миротворчества целесообразно рассмотреть отдельные его виды, такие как превентивная дипломатия, операции по поддержанию мира и миростроительство. Для анализа эволюции способов урегулирования конфликтов логично применить структурно-функциональный метод, исследовав генезис отдельных видов миротворчества.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе