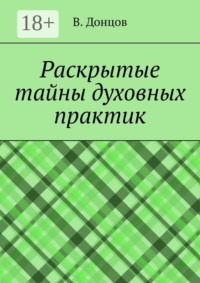Читать книгу: «Раскрытые тайны духовных практик», страница 3
Знание философии и методологии избавляет от типичных ошибок, характерных для современных представителей узко специализированной науки, прежде всего, от подмены сущности старения его механизмами, что и привело к безудержному размножению «теорий» старения, которых насчитывают более 200 и число которых все продолжает множиться, и к широкому хождению мифов о старении и бессмертии, подменяющих истинную суть и содержание процесса старения, которые, между прочим, хорошо известны и глубоко изучены.
Немалое значение в современном интересе к проблеме старения имеет то, что в настоящее время коренным образом меняется возрастная структура населения развитых стран (см. рисунок). Из пирамидальной она становится все более прямоугольной – все большее число людей реально доживает до старости и поэтому задумывается о ней как о реальном будущем.
Наиболее известным и расхожим является, видимо, утверждение, с которого часто начинают лекции о старении. Обычно утверждают, что общей теории старения не существует, теорий старения несколько сотен, но ни одна из них не верна, что нужно создать «правильную» теорию старения, которая и укажет на неизвестную сейчас причину старения и отменит старение, приведя не только к вечной молодости, но и к бессмертию. Фактически, все здесь бестолково свалено в кучу и не верно с точностью до наоборот: теория старения существует, она одна, включает все имеющиеся «теории» как частные случаи – механизмы старения (а так как механизмов может быть бесконечно много, то и новых «теорий» будет сколько угодно) и как частные случаи все теории правильны. Также известна и общая причина старения как феномена накапливающихся с возрастом нарушений структуры и функции организма, как движения от порядка к хаосу. В общем виде это естественный в природе процесс, так как он протекает с повышением энтропии; в частном виде это известно как второй закон термодинамики – накопление хаоса в дискретной (отделенной от среды) системе. Но причина – это принцип, а не механизм, она не может быть отменена (как и большинство фундаментальных причин), можно лишь противопоставить ей другой принцип (самоорганизации и развития), что и осуществляется в природе как процесс жизни в целом.

Возрастное распределение в развитых и развивающихся странах.
Желаемая «вечная молодость» не привела бы к бессмертию, так как старение – это повышение вероятности смерти с возрастом, а вечная молодость – это всего лишь постоянная (а не нулевая!) вероятность смерти в течение всей жизни. Такая ситуация привела бы лишь к иному принципу вымирания популяции «вечно молодых» с весьма небольшим увеличением средней продолжительности жизни (СПЖ), но с весьма большим количеством социальных и психологических проблем. Действительно, при старении, когда с возрастом вероятность смерти увеличивается на порядок величин, основное вымирание популяции резко сдвинуто вправо – на старшие возраста, тогда как при «вечной молодости» вероятность смерти постоянна в течение всей жизни и СПЖ (как 50% выживаемость) резко сдвинута влево, что типично для всех систем с постоянной стохастической (вероятной) гибелью элементов, например, для радиоактивного распада.
Из демографических данных по смертности населения в развитых странах известно, что СПЖ сейчас в них достигает 8085 лет и более, то есть 8085% населению гарантировано СПЖ, которая рассматривается населением как лично ожидаемая, «гарантированная» длительность собственной жизни, что составляет порядка 8085% от максимально наблюдаемой. С другой стороны, СПЖ «вечно молодых» не достигало бы и 15% от так называемой максимально возможной ПЖ, что вело бы к резким демографическим и политическим проблемам.
Из других мифов следует упомянуть прежде всего представление, что существует максимальная продолжительность жизни (МПЖ), равная 100-120-140-170-200-250 годам и т. п. (в зависимости от личных предпочтений), и ее можно достичь, достаточно лишь изучить опыт жизни и «устройство» долгожителей.
Однако, имеющиеся зафиксированные максимальные продолжительности жизни – это рекордные ПЖ – исключения, известные в статистике как «хвосты» кривых нормального распределения признаков, и достичь их для сколь либо большой части населения нереально. Такие «хвосты» типичны для любого статистического распределения и ориентироваться можно лишь на СПЖ.
К тому же, МПЖ вообще не может существовать как определенная цифра: вымирание популяции – это вероятностный закон (кривая, а не цифра) и всегда имеется какая-то вероятность прожить дольше любого заранее заданного предела.

Вымирание популяций с наличием старения (А) и без него (Б).
По горизонтали – время (годы), по вертикали – процент выживших.
СПЖ обозначено вертикальным пунктиром на горизонтальную ось.
Цельная линия – вымирание популяции (данные по России, 1995 г.)
Штриховая линия – вероятность смертности популяции (для нестареющей популяции – смертность для 20-летних, равная 0,15% в год).
Говорить можно лишь о том, какой процент остаточно сохранившейся популяции (и соответственно какой процент вымершей популяции) считать за основу «МПЖ», которую скорее следует трактовать как ВПЖ – видовой предел жизни. При этом резкое увеличение смертности с возрастом ведет к тому, что различия между ПЖ оставшихся 1%, 0,1%, 0,01% и так далее, членов популяции разнятся даже не на годы, а на месяцы, поэтому МПЖ (или ВПЖ) вполне адекватно рассматривать как ПЖ до сохранившихся 1%, а то и 5—10% популяции.
Представление, что смертность определяется только конкретной причиной, и убрав конкретные причины мы уберем и саму смертность, неограниченно продлив ПЖ – типичный «миф врачей». Это породило в средине прошлого века многочисленные движения по общему оздоровлению. Ряд лонгитудинальных исследований (наблюдение за одной и той же группой в течение нескольких десятков лет), однако, показало, что смертность в таких группах, ориентированных на профилактику сердечнососудистых заболеваний как основную причину смерти, снижается очень незначительно, хотя смертность от собственно сердечнососудистых заболеваний снижается достаточно выраженно – происходит перераспределение смертности: так называемый «компенсационный феномен смертности», с увеличением смертности от других причин.
Этот почти мистический феномен, однако, для биолога-геронтолога и математика совершенно ясен – смертность является результатом в первую очередь снижения жизнеспособности, а причины смертности второстепенны: смертность не складывается от причин смерти, а раскладывается по ним! Конкретные причины смерти возникают случайно за счет как внешних, так и внутренних сверхсильных для организма воздействий.
Миф, что старение – эволюционно важно как смерть старых для «открытия дороги молодым» – типичный миф неспециалистов в области эволюционной теории и экологии. Давно, однако, известно, что в реальной жизни в природе с очень большой смертностью до старости практически никто из диких животных не доживает; с другой стороны, во многих случаях возрастной опыт (птицы, млекопитающие) или увеличивающиеся постоянно с возрастом размеры (рыбы) снижают (!), а не повышают реальную смертность с возрастом в естественных условиях. К тому же, эволюция может влиять только на репродуктивный период, и более старшие возраста просто «не видны» ей. Эволюционные влияния важны в определенном виде – на период старения не обязаны распространяться эволюционно найденные механизмы максимальной адаптации, и если они важны для периода половозрелости, но имеют механизмы «выключения» или рассогласования с возрастом и другие неблагоприятные моменты, «отсроченные» на поздние возраста, эти особенности проявятся в старости как регуляторные и иные механизмы старения (типично – климакс).
Целая группа мифов связана с возможностями абсолютной регенерации всех структур организма или, наоборот, с запрограмированностью старения и смерти – о биологических «часах смерти». Это связывают с клеточным самообновлением: с тем, что клетки, с одной стороны, имеют внутри себя предел жизни (феномен Хейфлика), с другой стороны, считают, что многие клетки бессмертны в культуре, и с третьей стороны, что только стволовые клетки бессмертны и только они обновляют все ткани организма.
На самом деле, все здесь не верно. Давно показано, что феномен Хейфлика – чисто культуральный феномен и только для ограниченного типа клеток, с чем давно согласился и сам автор, отдающий сейчас предпочтение стохастическим представлениям о старении. Клетки в культуре со временем изменяются – мутируют и подвергаются отбору, так что со временем это уже другая культура (это хорошо известно работающим изначально с одним типом клеток в течение долгого времени – результаты, полученные на культурах «одних и тех же» клеток разными группами ученых, оказываются противоречивы).
Известно также, что самообновление клеток, например печени, идет прежде всего за счет самих клеток печени, а не стволовых клеток – это хорошо видно при регенерации ее в эксперименте, когда в первый же регенерационный митоз в течение суток могут входить практически все печеночные клетки; только при блокировании такой регенерации начинают активироваться стволовые клетки в значительных количествах – так называемые «овальные клетки печени».
Стволовые клетки не бессмертны – молчащие стволовые клетки со временем гибнуть по чисто вероятностным причинам и механизмам; вышедшие в деление стволовые клетки формируют популяции, которые со временем также истощаются, на смену одних приходят другие популяции. При этом молодые стволовые клетки в старом организме ведут себя угнетенно, а старые стволовые клетки в молодом организме – как молодые, без явных признаков старения.
Представление о том, что существует «программа старения» является еще одним широко распространенным мифом. Однако, при этом игнорируют (а вернее, не понимают или даже не знают), стохастические (вероятностные) процессы, направляющие естественным образом любые системы к распаду, и не требующие никакой специальной программы для этого. Это легко понять исходя из механического аналога: механическая машина создается по чертежам – «по программе», но когда она начинает эксплуатироваться, программа закончена и ее старение идет уже не по программе, а согласно стохастическому механизму, в соответствии со вторым законом термодинамики и со случайно развивающимися различными повреждениями.
Достаточно четко видно, что в основе всех мифов о старении – незнание научной методологии и неумение применять теоретические методы с одной стороны, при раздувании частностей с другой стороны. В результате крайней специализации наук почти нет ученых с широким взглядом – есть узкие специалисты, не видящие общей картины. С другой стороны, налицо выдача собственных желаний за научную истину, а также отвлеченных рассуждений за экспериментально проверенные факты.
В вопросах о причине старения главная ошибка – непонимание гносеологических (методологических) основ: причина – это не конкретный механизм, а принцип – другой уровень анализа проблемы. За причину выдают различные частные механизмы, что приводит к плодящимся сверх всякой меры «теориям» старения, не «видящим» друг друга и игнорирующие любые другие механизмы старения. Отсутствие системности мышления не позволяет увидеть проблему старения в целом, а не учет иерархии структуры системы (молекулы – клетки – ткани и суборганные структуры типа альвеол или нефронов – органы – организм) не дает возможность видеть качественное различие проявлений старения для разных уровней организации живых систем и влияния одних уровней организации на другие.
Современный научный анализ процесса старения должен проводиться на высоком уровне абстракции, описывая старение как общее явление мира, указывать на наиболее общие механизмы старения и открывать принципиальные пути влияния на них; должен допускать общее математическое представление, а также явно указывать на главные физико-химические и биологические механизмы старения.
Следует также учитывать, что только для человека вопрос продления жизни и сохранения личности, а в особенности вопрос снятия старения как феномена жизни, стал насущным. Это, в частности, означает, что человек в настоящее время не подчиняется законам биологической эволюции и перед ним открываются чисто человеческие задачи и перспективы дальнейшего развития, основывающиеся на присущих именно человеку особенностях – его интеллекте и психике. Действительная победа над старением означает поэтому не застывшую «вечную молодость», а контролируемое самим человеком дальнейшее развитие его в физическом и духовном смысле. Для всего человечества – взятие под контроль биологической природы человека и ее дальнейшее контролируемое развитие на основе принципиально нового, что и есть только у человека – его сознания и психики. В настоящее время сущность и главные механизмы старения достаточно понятны и могут быть описаны ниже в общем виде.
Старение является общим свойством как живых, так и неживых систем и представляет собой износ, деградацию, снижение порядка, структуры и функции, увеличение хаоса сложной системы. Феномен старения легко поддается теоретическому анализу с использованием современной научной методологии – теории систем.
Основные закономерности и сама причина старения четко видны на примере механической модели, для чего достаточно взять автомашину как конкретный пример механической системы. Так, автомашина как сложная система с неизбежностью стареет со временем: порядок сменяется хаосом, функции ее снижаются, элементы ломаются.

Взаимоотношение процессов порядка и хаоса
Порядок (структура) системы самопроизвольно (по закону нарастания энтропии) превращается в хаос. Этому противостоит внешняя энергия, на основе информации (внутренней для биологической системы), восстанавливающая порядок (структуру) системы (путем самокопирования для биологической системы). Энтропия также искажает этот процесс, приводя к ошибкам. Ошибки (само) восстановления системы контролируются отбором: внешним и внутренним (например, иммунной системой). Итогом является постоянный динамический процесс, обеспечивающий не столько постоянную сохранность системы, сколько ее динамическое равновесие и, при необходимости – эволюцию. Старение проявляется там, где полнота самообновления не достаточна, не полная.
В данном случае достаточно понятно, что общая причина само-изменения от порядка к хаосу известна, она одна – естественное направление изменений задает закон повышения энтропии для естественно происходящих в природе реакций для любых систем. Это и есть причина, а также главный механизм – стохастическое старение системы как результат множества вероятностных повреждений разного типа. Множество самых разнообразных естественных влияний на такую механическую систему случайным образом (направляемым законом повышения энтропии), ведут к одному и тому же – снижению ее устойчивости, порядка, увеличению хаоса, то есть, собственно к старению системы.
Легко также видеть на данной механической модели, что механизмы старения даже такой простой системы множественны и носят вероятностный характер: механические повреждения (шины, тормоза), физические (усталость металла), физикохимические (выгорание свеч), химические (ржавление кузова), биологические (грибок, бактерии), социально-психологические (аварии, «моральное устаревание» и личные запросы) и пр.
Принципиально важно, что конкретные формы старения конкретной системы принципиально различны по своей природе и зависят от конкретной морфофункциональной структуры системы или ее стареющей части. Достаточно давно уже понятно, что именно конкретная морфофункциональная структура организма определяет как видовую продолжительность жизни, так и тип и формы старения, характерные для данного вида (ведущий отечественный геронтолог, патофизиолог и философ И. В. Давыдовский).

Механическая модель системы с внутренней иерархической структурой.
Система дискретна (отграничена от среды), имеет внутреннюю структуру, иерархически сложна (состоит из элементов и субэлементов) и элементы ее подвержены случайному повреждению.
Общая механическая модель абстрактной механической системы с интересующей нас точки зрения может быть представлена следующим образом.
Во-первых, это некая отграниченная от внешней среды система – дискретная система. Дискретная природа системы дает нам возможность сделать первый общий вывод: о принципиальной смертности системы. Действительно, целостность Мира в целом дает бесконечное разнообразие внешних влияний на систему; сложная внутренняя структура системы дает также значительное число вероятных неблагоприятных влияний на нее в целом. Все это означает, что любая система имеет конечную устойчивость ко всей совокупности внешних и внутренних воздействий и, соответственно, ненулевую уязвимость (смертность). Это означает принципиальную смертность системы: даже не стареющая система имеет конечную вероятность погибнуть, то есть, «вечная юность» – это не бессмертие, а лишь гибель популяции с постоянной вероятностью. Такой процесс, носящий принципиально вероятностный характер, описывается типичным образом простой формулой, хорошо известной на примере радиоактивного распада: dX/dt = k*X, то есть, изменение числа имеющихся единиц системы (Х) пропорционально имеющемуся числу единиц в наличии и вероятности гибели (k). Принципиально важно, что средняя продолжительность жизни для популяции таких единиц (50% гибель начальной популяции) резко сдвинута влево, составляя всего лишь проценты от общего времени полного вымирания всей популяции (см. рисунок выше).
Вторым важным моментом общей механической модели является наличие внутренней структуры системы (см. рисунок выше) и различие таких внутренних структур. При наличии реально существующей иерархии структуры системы количество таких «структур внутри структуры» может быть различно для разных структур (узлы механической системы сами состоят из различных частей), вплоть до первичной структуры субстрата физико-химической природы, из которого состоят все материальные системы.
Применяя те же рассуждения, что и выше, о «нестарении» отдельных элементов структуры, мы придем к выводу, что из нестареющих элементов, тем не менее, состоит стареющая внутри себя система, так как со временем количество ее функциональных элементов, даже не стареющих, снижается по стохастическому закону. В таком случае выше приведенная формула стохастического («радиоактивного») распада применима уже к отдельным элементам системы, а функция системы (и ее жизнеспособность) будут пропорциональны оставшемуся числу элементов. Уязвимость, напротив, будет обратно пропорциональная жизнеспособности (m = 1/X), что дает в итоге при интегрировании знаменитую формулу Гомперца, предложенную им для описания старения живых систем почти 200 лет назад и остающуюся до настоящего времени наиболее точной:
m = exp (a t),
где «a» коэффициент степени экспоненты, а «t» – время.
Учитывая наличие внешней вероятности гибели системы, носящей постоянный характер – константа «A», мы придем к формуле ГомперцаМейкема:
m = exp (a t) + A.
Эта формула вполне адекватно отражает реальные процессы не только для биологической системы, для которой она была предложена, но и для механических систем: чем старше механическая система, тем чаще число отказов в ее работе. Следует отметить также, что это рассуждение касается любого иерархического уровня организации системы и реально существует вплоть до материального субстрата – молекул и атомов, которые также вступают в физико-химические реакции или подвержены внутренним изменениям в молекуле.
Единственное противодействие старению, как легко видеть из механической модели – это замена изношенного на новое. Идеальное решение, однако, пересадка на новую машину (не в машине дело, а в водителе. Соответственно, заметьте, мы говорим о себе: «я» и «мое тело», не отождествляя духовное Я с материальным носителем).
Частота ремонта (замены старых узлов на новые) определяет степень «поддерживаемого уровня старения», который может быть произвольным. Принципиально важными являются другие два момента.
Во-первых, невозможно в полной мере осуществлять ремонт всех структурных уровней сложной системы: имеются не заменяемые узлы (например, кузов машины), а также сам материальный субстрат подвержен необратимым изменениям на физико-химическом уровне (ржавление и механическое истирание).
Во-вторых, новые узлы не могут значительно отличаться от старых, что означает принципиальную ограниченность возможности развития и улучшения механической системы на базе нее самой. В реальности также мы видим конструирование новых лучших систем заново, а не на базе старой машины. Нельзя не видеть прямых аналогий с эволюцией живого: новые виды и индивиды формируются заново, а не путем бесконечного развития уже имеющегося индивида.
Наконец, важнейшим для рассмотрения судьбы систем в общем виде является известное положение о том, что процессу накопления энтропии можно противостоять лишь путем внешней энергии, которая только одна и может снизить энтропию системы в целом и обеспечивает ремонт, рост и развитие систем.
Важно, однако, понимать, что реально в любой системе в действительности идут все возможные процессы, которые реально и следует учитывать, когда речь идет об очень длительных периодах времени и очень сложных системах. Системный анализ, как современная научная методология, как раз и способен это делать.
В общем виде это звучит следующим образом. Процессы распада любой системы направляются законом повышения энтропии в ходе естественно происходящих процессов, что ведет к увеличению хаоса и снижению порядка в системе.
Единственная возможность противостоять процессам накопления энтропии – внешняя энергия. Для механической системы это означает просто ремонт ее за счет внешних сил и деталей.
Для биологической системы такой ремонт происходит внутри путем самокопирования, что компенсирует распадающиеся подсистемы. Внешняя энергия необходима для получения порядка из хаоса, но она действует в конкретных условиях, по конкретному плану – на основе информации биологических систем (развитие на основе генетики организма), и путем самокопирования имеющихся биомолекул и биоструктур. Энтропия противодействует этому процессу путем ошибок, которые с неизбежностью проявляются на всех и любых уровнях организации системы.
Ошибкам противостоит отбор (естественный отбор для вида и иммунные и другие механизмы внутри организма), однако, отбор также подвержен неизбежным ошибкам и дает лишь материал для эволюции системы (организма).
Практически, внутри организма невозможно достичь бесконечной эволюции и усложнения, как это имеет место для видов. Кроме того, ввиду самого существования организма как отдельной системы, организм принципиально смертен, и отбор и эволюция не имеют достаточно времени и необходимости (как и возможности) для формирования нестареющего организма, в котором внутри него полностью компенсируются все ошибки и происходит полноценная эволюция и дальнейшее бесконечное развитие. На деле неизбежно накопление ошибок, прекращение развития и снижение упорядоченности в целом, что и есть старение живых организмов.
Наиболее важным общим положением является то, что существование системы – это не стационарность и неизменность, а динамический процесс, находящийся в равновесии с внешней средой.
Биологические системы отличаются от механических лишь самовоспроизведением (то есть, «заменой» частей «изнутри»).
Принципиально важно, исходя из рассматриваемого, что не все иерархические уровни организации биосистем могут быть обновлены в полной мере (некоторые гены, субклеточные структуры, клетки и надклеточные структуры: альвеолы, нефроны, а также органы – зубы и пр. принципиально не способны воспроизводиться при повреждении) и становятся основой накапливающихся со временем повреждений структуры системы и причиной снижения ее функции.
Принципиально важно также, что причины повреждений структуры для каждой части системы различны и многообразны и не могут быть ликвидированы полностью путем самовоспроизведения. Так, например, возрастная эмфизема легких (типичный процесс старения) является результатом гибели альвеол, что, в свою очередь, определяется целым рядом случайных событий: молекулярные реакции (свободные радикалы и просто повреждения ввиду связанных с температурой хаотических реакций, самопроизвольные мутации различной природы, неспецифические неконтролируемые химические реакции и другие случайные физико-химические процессы, прямо вызывающие гибель клеток); клеточные процессы (снижение скорости клеточного самообновления); тканевые изменения (снижение скорости клеточного обновления альвеол, сосудов и пр.), атрофия, склероз альвеол различной природы; нарушения сурфактанта – схлопывание альвеол; нарушения вентиляции – застой и атрофия альвеол; воспалительные процессы – дегенерация альвеол; местные инфаркты, ишемия, дисплазии и т.п.; «засорение» альвеол внешними факторами (дым, пыль); нарушения центральной гемодинамики, иннервации и т.п.; аутоиммунные процессы и пр.; гипертрофия оставшихся альвеол и склероз погибших и т. д.
Таким образом, ни один конкретный механизм старения ни на одном уровне структуры организма не способен описать всю картину старения и не является единственной причиной старения. Это иллюстрирует основной гносеологический методологический закон: причина – не механизм, а принцип, сущность, тогда как механизмы – проявления причины. Таким образом, стохастическая гибель элементов системы является первым и основным глобальным механизмом старения для любой системы.

Гидра – полностью само-обновляющийся организм. Все клетки делятся. Старения нет, продолжительность жизни не ограничена.
Дрозофила – все клетки не делятся. Выражено старение, продолжительность жизни – 1 месяц.
Наличие обмена веществ с внешней средой и сложный метаболизм внутри системы позволяет проявиться стохастическому механиззму для биологических систем через механизм «загрязнения» внешними интоксикантами и внутренними метаболитами. Такое «загрязнение» внешними интоксикантами и внутренними метаболитами также не может быть полностью компенсировано, что составляет второй глобальный механизм старения (см. рисунок).
Наличие систем роста и развития позволяет биологическим системам иметь механизм регуляторного старения – третий глобальный механизм старения. Так как размножение клеток полностью обновляет такие структуры, как кожа, слизистые, паренхима органов, то старение их может являться только результатом снижения регуляторных факторов (видимо, факторов роста) – глобальный механизм старения, характерный уже только для живых систем (см. рисунок).
Достаточно простого снижения скорости клеточного роста, чтобы признаки старения быстро и явственно проявились в клетке (см. рисунок), что легко наблюдать в культуре клеток.

Модель биологической системы.
Стохастическим механизмам повреждения структур системы и накопления интоксикантов противостоит механизм самовоспроизведения внутренних структур, который носит регуляторный характер.
Важнейшим является принципиально большое разнообразие стохастических причин старения, различие их физической, химической и иной природы. Это, с одной стороны, делает старение индивидуально различным для каждого типа систем, зависимым от их конкретной морфофункциональной структуры. С другой стороны, это принципиально не позволяет полностью противодействовать старению системы каким-либо одним или даже несколькими ограниченными в количестве способами: необходимы многие комплексные меры.
Все ниже сказанное будет носить теперь уже частный характер. Необновляемые элементы в каждом конкретном случае могут иметь свой особенный механизм повреждения, тогда влияние на него является важным механизмом противодействия стохастическому старению, хотя и затрагивающим уже вторичные механизмы реализации старения, причем для отдельных процессов или типов структур.
В живой системе клеточные элементы имеют основной механизм повреждения – обычное тепловое движение молекул, которое невозможно избежать и которое к тому же является важнейшим условием нормального метаболизма.
Другим широко известным общим механизмом повреждения макромолекул являются свободные радикалы, поэтому антиоксиданты, активация генов ферментов, разрушающих свободные радикалы, снижение температуры тела и др. снижают вероятность гибели необновляемых клеток и удлиняют сроки их жизни.

Старение фибробластов в культуре ткани. Достаточно снижения скорости клеточного роста, чтобы уже через неделю были ясно видны признаки старения клеток – справа.
Однако, это эффективно только для организмов с преимущественным стохастическим старением, например, для дрозофил, у которых нет деления клеток; тогда как у мышей и других организмов с наличием замещения клеток путем клеточного деления, эти влияния не слишком эффективны; к тому же, в процессе эволюции эффективность имеющихся в организме млекопитающих систем противодействия свободным радикалам доведена до совершенства, которое трудно улучшить. Анализ литературы показывает, что антиоксиданты продлевают жизнь лишь при наличии недостаточности системы антиоксидантов и усиленной продукции свободных радикалов; в случае их адекватности никакого увеличения жизни нет, а при гипер-стимуляции – вообще снижается продолжительность жизни в эксперименте, что ставит под сомнению всю свободно-радикальную теорию старения.
Развитие молекулярной генетики и клеточной биологии привлекло внимание к процессам повреждения хроматина и существующим методам его восстановления – репарации.
Насчитывают десятки специальных ферментативных каскадов для репарации различных повреждений хроматина. Хотя теорий старения, отводящих центральную роль в старении повреждению хроматина достаточно много, однако, фактически нет методов влияния на старение путем активации таких процессов.
Аналогично, многие другие теории старения, предлагающие на роль причины старения конкретные механизмы повреждения биологических структур, не создали эффективных средств влияния на старение и на продление жизни.
Как сказано, принципиальным и единственно возможным методом противодействия старению является общий принцип полной замены поврежденных структур.
Для простых организмов, например, гидры, это возможно, поэтому гидра не стареет и продолжительность жизни ее не ограничена (хотя она, естественно, и не бессмертна).
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе