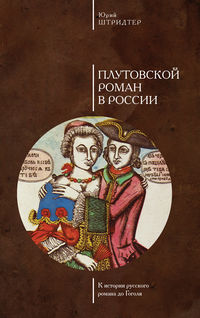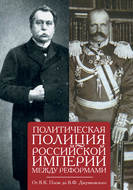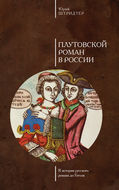Читать книгу: «Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя», страница 3
V
Хотя выше обсуждались только те западноевропейские плутовские романы, которые были известны в России, уже эта подборка демонстрирует многообразие традиции и в то же время – характерные черты жанра, общие для всех произведений. Определение плутовского романа различно в работах разных исследователей, как и мнение (основанное на структуре или времени появления текста) относительно того, что «уже» или «ещё» не является «настоящим» плутовским романом. В целом, может быть предложена следующая формулировка: плутовской роман – это вымышленное жизнеописание плута, жулика и авантюриста, часто выходца из низов или деклассированного дворянина, от лица которого ведется повествование (благодаря чему создается сатирическое изображение современного мира). Однако и эта дефиниция, как все прочие, с литературно-исторической точки зрения имеет смысл только тогда, когда указывается, каким изменениям впоследствии подвергся каждый из упомянутых признаков, а также их отношение друг к другу, и что именно эти изменения и создают жанровое разнообразие.
Это касается, в первую очередь, самого образа плута. Точное описание этого типа героя представляется невозможным, поскольку, зарождаясь в плутовских романах XVI века, с течением времени он постоянно изменяется и варьируется различными писателями. Ласарильо в чём-то похож на персонажей сборников шванков, но во многом – отличается от них. Будучи хитрым, бедным, путешествующим по стране слугой многих господ, он представляет собой типичного протагониста плутовского романа, однако автор не называет его «пикаро» и не наделяет его свойственной пикаро вольностью. Это происходит только в «Гусмане». Впрочем, Гусман де Альфараче является не только слугой многих господ, но и много путешествовавшим, свободным и достаточно эрудированным авантюристом. В дальнейшем аморальность плута так усиливается, что превращается в криминальность, и не лишенный добрых качеств мошенник становится злым преступником. Примерами служат Дон Паблос у Кеведы и многочисленные представители английской literature of roguery. Образы «отъявленных плутов» (gran tacano) и «больших преступников» (Картуш, Уайлд и т. д.) показывают, что при этом может происходить героизация зла, противоречащая изначальному сугубо антигероическому характеру плутовского романа, а также способная создать пародийный эффект (ср. «Историю Джонатана Уайлда» Филдинга). Линия Обрегон – Жиль Блас – Родерик Рэндом, напротив, демонстрирует образ, «очищенный» от моральных недостатков и так высоко «поднятый», что он становится гораздо ближе к героям приключенческих, дорожных и любовных романов, чем к пикаро первых плутовских романов. Говорить о едином типе главного героя, таким образом, попросту нецелесообразно.
Не менее различны места действия, а также общественные слои, включенные в сюжет романов. Чаще всего плуту свойственна не только моральная и социальная, но и географическая мобильность. Его переезды, как правило, связаны со сменой хозяина или с мошенническими операциями; иногда они также являются проявлением свободы пикаро, желания путешествий и странствий по миру. Порой они становятся настолько самостоятельными, что создают ощущение чтения дорожного романа. Описание социальных слоев, в свою очередь, может как ограничиваться кругом разбойников и попрошаек, так и охватывать всё современное общество. При этом то, что начиналось как сатира на людей под знаком фортуны или как взаимная игра между плутовской вольностью и божеской милостью, в XVIII веке принимает характер односторонней общественной критики134.
Постоянным атрибутом плутовского романа является форма повествования от первого лица135. Именно благодаря ей становится возможным сатирическое изображение не только образа плута, но и того, что он видит своими глазами. Однако и здесь наблюдаются многочисленные вариации и постепенные изменения в технике использования приема. Авторы ранних испанских романов были образованными и хорошо разбирающимися в литературе людьми, часто – известными и высокопоставленными личностями. Выбирая форму повествования от лица пикаро, они сознательно создавали сильный контраст, усиленный контрастом между аморальными действиями и моральными рассуждениями героя. Английские писатели ставили перед собой более амбициозную цель – создать у читателя впечатление, что он держит в руках «аутентичную» автобиографию, написанную самим известным преступником, рассказ о «подлинных событиях»136. Промежуточную возможность представляют собой плутовские романы, имеющие сильный «автобиографический» характер («Обрегон», «Эстебанильо» и т. д.). В них исчезает контраст между автором и повествователем, первоначально имевший большое значение. Подобная ситуация имеет место в «Жиль Бласе» (сравнивая с такими романами, как «Ласарильо», «Гусман» или «Дон Паблос»), где, кроме того, утрачивается дихотомия «моральности» и «аморальности» героя. Наконец, как показывает пример «Родерика Рэндома», форма повествования от первого лица может иметь функцию самовыражения и самонаблюдения, что придает тексту сходство с сентиментальными эпистолярными романами137.
Композиционная структура плутовского романа также изначально имеет свои характерные черты, которые с течением времени станут подвергаться изменениям. В отличие от героически-галантного романа со сложной техникой вставок, отсылками к прошлым и будущим событиям и интригой, до самого конца держащей читателя в напряжении, плутовской роман представляет собой ряд эпизодов из жизни героя, расположенных в хронологическом порядке. При этом повествование может разворачиваться строго линейно (тип «Ласарильо»), в него могут вставляться истории других плутов и «новеллы» в другом стиле (тип «Гусмана»), а также его части могут принимать «романескный» характер (тип «Маркоса де Обрегон»). В результате, в одном тексте могут пересекаться или следовать друг за другом различные стилистические и тематические пласты. То же самое справедливо для всей истории развития плутовского романа, в ходе которой он соприкасается и сближается с сильно различающимися литературными формами (сборник шванков – дорожные приключения – мемуары – сентиментальный роман).
Благодаря широким возможностям стиля при сохраняющейся основной структуре национальные писатели могут сделать текст плутовского романа более понятным для читателя- современника и более соответствующим его запросам (что верно и для Испании в XVI веке, и для Германии – в XVII, и для России – в XVIII и начале XIX века). Нестрогая композиционная техника позволяет авторам свободно использовать сатирический материал (поэтому плутовской роман может рассматриваться как переходная форма от простого собрания шванков к сложному и строго структурированному общественному роману)138. При этом достаточно придерживаться старой схемы, лишь меняя место действия и добавляя к традиционным образам и мотивам специфически национальные, чтобы придать всему тексту определённый народный колорит (плутовской роман как переход от слепого подражания литературному шаблону к самостоятельному созданию национального своеобразия в романе). По данным причинам плутовской роман является для литературоведов особенно удачным «образцом» для демонстрации постепенного соединения заимствованного с оригинальным, развития романного жанра и присущих ему литературных техник, а также изменения читательских вкусов.
Всё это в высшей мере справедливо для плутовского романа в России XVIII и начала XIX века. Он может дать исследователям русского романа целый ряд отправных точек, при условии, что они отталкиваются от общеевропейской традиции и соответствующего ей определения жанра. Это определение затрагивает как тематику, так и формальное своеобразие романа, благодаря чему можно избежать смешения «содержания» и «формы». Кроме того, оно позволяет отказаться от изолированного рассмотрения «общественно-критического содержания» романа, которое именно в русском литературоведении (не только в советском) зачастую абсолютно неверно интерпретируется. Не подлежит сомнению, что плутовской роман, благодаря фигуре главного героя и повествованию от его лица, создает богатые возможности для сатиры и общественной критики. Однако рассмотрение всего жанра только с этой точки зрения не позволяет уделить необходимое внимание специфически литературному характеру этой критики. То, что критика имеет место, бесспорно; однако главный вопрос для литературоведов состоит в том, как это происходит, какова при этом степень значимости оригинального и традиционного, а также каким образом роман становится сатирическим отражением действительности, и наоборот, каким образом сатирическое изображение действительности превращается в роман.
Тесно связанным с проблемой общественной критики является вопрос о социальном положении автора романа и его читателей. Как будет показано далее, авторы почти всех русских плутовских романов были людьми, чья работа и частично даже пропитание зависели непосредственно от спроса на книги и успешности продаж (что в России того времени было, скорее, необычной ситуацией). Это обстоятельство послужило в России (и в некоторых других странах) поводом для формирования точки зрения, согласно которой низкое социальное положение плута, его окружение и соответствующий ему взгляд на мир предполагает такое же или, во всяком случае, схожее общественное положение автора и его читателей. В действительности, для первых плутовских романов испанских писателей, напротив, характерен большой разрыв в социальном благополучии автора и фиктивного повествователя. Однако этому факту не должно придаваться слишком большое значение. Ещё в Испании среди сочинителей можно было встретить не только видных писателей, придворных и духовных лиц, но также «буфонов» и т. п. В Германии, где публика была не такой взыскательной, как, например, читатели Кеведы, автором чаще всего являлся сельский староста, который, помимо назидательных и развлекательных текстов, писал и плутовские романы. В Англии авторами literature of roguery становились как публицисты и памфлетисты, не имевшие никаких претензий в литературном плане и желавшие лишь удовлетворить потребность читателя в сенсациях, так и романисты с мировым именем. Таким образом, мнение о том, что «пикарескный» взгляд на мир является прямым следствием общественного положения автора, ошибочно уже с исторической точки зрения. С другой стороны, важно подчеркнуть, что как замысел, так и реализация плутовского романа могут модифицироваться (что происходит нередко) в зависимости от позиции писателя и ожиданий читательской публики в момент написания текста. В особенности это справедливо для русского плутовского романа. По этой причине в данном исследовании будет сделана попытка выяснить, при каких условиях писали и издавали свои произведения русские писатели, как им удавалось добиться реализации своих творческих идей при ином господствующем литературном направлении, к каким слоям аудитории они хотели обратиться и к каким обращались, а также какой отклик получали плутовские романы в современной критике, современной литературе и среди российской публики. Плутовской роман является важным и удачным методическим образцом для понимания истории русской романной литературы не в последнюю очередь потому, что – помимо усовершенствования литературной техники – он способствовал созданию двух важных предпосылок для дальнейшего развития жанра: нового в Российской империи типа «профессионального писателя», а также широкой аудитории читателей романов.
Однако главной задачей исследования остается литературный анализ самих работ. При нем, что является важным для ситуации в Российской империи, не встаёт вопрос об «оригинальности» текстов: история европейского плутовского романа столь богата различными прямыми и косвенными, переработанными и непосредственными заимствованиями, что ожидание художественной оригинальности, подпитанное ренессансной эстетикой «гения», с методической точки зрения, здесь бессмысленно. К счастью, эта точка зрения относительно западноевропейского плутовского романа стала преобладать в исследовательской литературе (однако далеко не сразу и только в последнее время)139. Необходимо, чтобы она также учитывалась при рассмотрении русской литературы XVIII века, исследование и интерпретация которой по сей день затруднены из-за «споров об оригинальности». В то время как одни критики (ещё с конца XIX века) постоянно обосновывают её «зависимость» и «отсутствие оригинальности» в произведениях, другие – игнорируют или отрицают любые литературные контакты, доказывая её художественную ценность и национальную самостоятельность (что приводит к не меньшей переоценке проблемы оригинальности)140.
В данной работе, напротив, уделяется большое внимание параллелям между русским и западноевропейским плутовским романом (включая определение первоисточника) и отслеживается процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи. Это, однако, делается не с целью оценки его «оригинальности» или «национальной самостоятельности», а с целью доказательства того факта, что русский плутовской роман (как и плутовской роман в других странах) неразрывно связан с западноевропейской традицией жанра и может быть проинтерпретирован только с учетом её рассмотрения. Задачей этой работы является исследование того, как и в какой степени западноевропейский плутовской роман стал известен в России до 1830 года, какое место этот жанр занял в русской литературе, какие характерные структурные и содержательные признаки были сохранены, а какие – изменены, и какой вклад этот тип романа вложил в развитие русской национальной литературы. Безусловно, все рассматриваемые в этой книге плутовские романы имеют меньшую литературную ценность, чем европейские произведения этого жанра. Без сомнения, они также менее ценны, чем великие русские романы XIX и XX века, – но нельзя забывать о том, что эти тексты являются одними из первых романов в Российской империи. Они выступают в качестве отражения более ранней литературной традиции и представляют особую важность для литературоведов как поздние – и уже поэтому своеобразные и интересные – национальные образцы европейского плутовского романа.
Несмотря на это, далее будет сделана попытка рассмотрения текстов русских писателей не как ступеней исторического развития и предшественников более поздних русских романов, а как самостоятельных художественных произведений (неважно, какой значимости). Это подчёркивается в самом оформлении данной работы: пять важнейших плутовских романов, написанных русскими авторами в конце XVIII – начале XIX века, рассматриваются изолированно, каждый – в отдельной главе (главы 2, 3, 4, 6 и 7). Поскольку эти тексты являются малоизвестными и не всегда доступными для читателя, в каждую из глав было включено краткое содержание соответствующего романа. Необходимо, впрочем, отметить, что в таком насыщенном сюжетными событиями произведении, как плутовской роман, подобное описание фабулы почти всегда будет неминуемо являться недостаточным.
Помимо интерпретации пяти романов, была также предпринята попытка установления всех других плутовских романов, вышедших в свет в Российской империи в данный исторический период. Обзор этих текстов представлен в приложении, где приводится каталог всех плутовских романов, опубликованных до 1832 года на русском языке (как оригиналов, так и переводов), с указанием всех выпусков и изданий. Этот список был создан на основе имеющихся библиографических работ по русской литературе XVIII и XIX века: прежде всего, библиотечных и издательских каталогов того времени, цензурных актов, литературных журналов, газет и т. д. Этот объёмный материал, как и сами тексты романов, мне удалось охватить и обработать только благодаря длительным командировкам в Хельсинки и Париж.
Безусловно, что при больших сложностях в поиске необходимых текстов (включая вторичную литературу) и отсутствии важнейших первоисточников (даже их переизданий) данная работа ни в коем случае не может претендовать на полноту и завершенность. Речь идёт лишь о попытке обстоятельного рассмотрения малоизвестной судьбы плутовского романа в России (в догоголевский период) и выделения в ней тенденций, характерных для начального этапа формирования русской романной литературы, с целью внесения вклада в развитие исследований о русском романе.
Глава 1
Плутовской роман в России: начальная ситуация
Несмотря на то, что новейшая русская литература лучше всего представлена в жанре романа и именно благодаря нему заслужила признание за рубежом, первые романы в России выходят в свет очень поздно – лишь во второй половине XVIII века. При этом книгопечатание в России появляется ещё в XVI веке141, однако до правления Петра I оно остается привилегией духовенства. Только во времена Петра Великого начинается публикация «светских» текстов142. Однако содействие оказывается, в первую очередь, публикации указов, ведомостей и учебников, в то время как художественной литературе по-прежнему не уделяется достаточного внимания. Издания подобного характера, которые всё же попадают в печать, включают в себя старые тексты, уже ранее распространенные в рукописном варианте – например, басни Эзопа, истории о Трое, «Юности честное зерцало» и т. п.143
После смерти Петра ситуация становится ещё более сложной. За 15 лет со смерти Петра (1725) до вступления на престол Елизаветы (1741), по имеющимся данным, были напечатаны только 180 работ «гражданского» характера144. Среди них лишь менее четверти могут быть названы беллетристикой, и только один текст является романом – изданный в 1730 году перевод героически-галантного романа П. Таллемана «Езда в остров любви» (Le Voyage de l'Isle d'Amour, ou la Clef des coeurs)145.
Но и после прихода Елизаветы к власти положение дел не сильно меняется. В год выходит в свет от 10 до 20 изданий, за 20 лет публикуются только 5 романов (в основном, переводы)146.
Только в последние годы правления Елизаветы наблюдается заметный рост. Ежегодное количество публикуемых работ превышает 30; одновременно увеличивается доля романов: за 1760-61 годы выходит в свет 10 переводов романов, то есть, за два года – больше, чем за 35 предыдущих лет вместе взятых147.
После коронации Екатерины II (1762) рост изданий продолжается и ускоряется после принятия указа о разрешении частных типографий (1783). Примечательно, что расцвет этого развития выпадает на 1788 год, предшествующий началу Великой французской революции. В этом году выходит в свет 400 работ, из них свыше 90 романов148. Однако ситуация резко меняется после ужесточения политики императрицей ввиду революционных событий во Франции. Книг печатается всё меньше; особенно – после 1796 года, когда частные типографии снова закрываются. После того как при преемнике Екатерины Павел I происходит усиление цензуры, сокращение выпуска новых изданий становится ещё более заметным149.
Уже этот краткий обзор показывает, что печать книг светского характера начинает внезапно расти к 1760 году и что в то же время становится регулярной публикация новых романов. Если с 1720 по 1759 годы среднее число ежегодно издаваемых работ чуть превышает 20, то в следующие 40 лет, с 1760 по 1799 годы, оно достигает 190 книг и более. И если в первые 40 лет вышло в свет только 6 романов, то в последующие 40 лет их количество составило свыше 1100 – число, которое впечатляет, даже несмотря на весь скепсис к статистическим данным подобного рода150.
До появления книгопечатания и наряду с ним существует рукописная традиция. Рукописные переводы или обработки романообразного материала имеют место ещё в Киевской Руси; копии этих т. н. «сказаний», «повестей» или «историй» распространяются вплоть до XVII и XVIII века151. Однако уже малый размер этих текстов не позволяет назвать их «романами». Даже самые длинные «истории», как правило, представляют собой сильно сокращенные обработки, чаще всего – «сухой» пересказ романной фабулы (если основой служил роман, а не эпос, хроника или легенда). Только в рукописях XVIII века можно обнаружить романы в настоящем, современном смысле: например, полноценный перевод «Приключений Телемака» Ф. Фенелона152 или «Памелы» С. Ричардсона153. Однако и в 18-м веке большую часть текстов составляют старые «истории» – о прекрасной Магелоне154, Мелюзине155 и т. п. К ним следует добавить переводы более новых, но сходных по содержанию и ценности романов XVII века, как, например, «Азиатская Баниза»156. Представлены и переводы некоторых романов XVIII века, в которых приключенческие мотивы соединены с моральными и сентиментальными157.
Поскольку эти новые тексты представляют собой уже не сравнительно краткое воспроизведение содержания, а рукописи объёмом в несколько сотен тесно исписанных страниц, с количественной точки зрения, невозможно провести границу между ними и печатной романной литературой158. Но и с качественной точки зрения чёткое разделение составляет трудность. С одной стороны, среди рукописных текстов можно обнаружить романы, такие как уже упомянутый «Телемак», который вскоре станет самым тиражируемым переводным романом XVIII века159; с другой стороны, среди печатных изданий 60-х годов можно найти «истории», ранее распространявшиеся в рукописном виде160. Кроме того, произведения, русские переводы которых уже были однажды напечатаны, продолжают переписываться от руки даже во второй половине XVIII века161.
Таким образом, печатные романы этого начального периода не могут рассматриваться отдельно от рукописных, которые составляют для них параллельный или нижний слой. Понятие «нижний слой», при этом, может быть понято как с литературной, так и с социологической точки зрения. Хотя читатели и авторы рукописных текстов являлись представителями различных профессий и сословий162, в первую очередь, рукописи создавались для простых, незажиточных читателей. Необходимо учитывать, что во времена Екатерины для представителей аристократической среды было характерно знание одного или нескольких иностранных языков. Как правило, в высшем обществе читали иностранную литературу (в том числе, французские романы) в оригинале и не были знакомы с русскими переводами текстов в печатных изданиях (это касается и писателей)163. Таким образом, благодаря распространению рукописей с одной стороны и благодаря распространению иностранных оригиналов с другой стороны, романы становятся популярными среди широкой читательской аудитории ещё до публикации их переводов в печатном виде. В середине восемнадцатого столетия чтение романов было одним из самых любимых занятий общества – свидетельством тому является и тот факт, что ещё до 1760 года разворачивается острая полемика против написания и чтения романов.
Так, например, А. П. Сумароков, один из главных представителей российского классицизма наряду с Тредиаковским и Ломоносовым, в 1759 г. публикует в своём журнале «Трудолюбивая пчела» дискуссионную статью «О чтении романов»164. Сумароков жалуется на то, что количество романов так сильно увеличилось, что они могут легко заполнить половину всех библиотек мира. При этом, по его словам, вреда от них гораздо больше, чем пользы. Говорят, что чтение прогоняет скуку, но чтение романов – это не разумное времяпрепровождение, а бессмысленная трата времени, – считает Сумароков. Лживый «романический стиль» не способен поднять человека над прочими животными и портит естественный вкус. Исключениями являются лишь «Телемак», «Дон Кихот» (как сатира на романы) и несколько других произведений165. При возможности Сумароков также высмеивает рукописные романы и истории, такие как «Бова Королевич» и «Пётр Златые Ключи»166.
Одновременно разворачивается полемика в защиту романа. Поскольку первые романы русских авторов появляются только после 1763 года, проблема признания романа беспокоит, прежде всего, переводчиков. Чаще всего, русский переводчик начинал текст с собственного предисловия, в котором подчёркивал моральную ценность переведённой им работы и указывал на то, что включение морали в развлекательное содержание только увеличивает её влияние и, соответственно, пользу от чтения. Таким образом, для ответа на нападки классицистов применяются их собственные аргументы, и старая формула о соединении приятного с полезным присутствует почти во всех введениях того времени167. Иногда к этой непрямой защите собственной позиции добавляется также и прямой ответ на претензии классицистов.
Особенно наглядным примером является предисловие русского переводчика (С. Порошина) к роману Прево «Английский философ, или История г-на Кливленда, побочного сына Кромвеля» в издании 1760 года168. Здесь читателю также преподносится идея о том, что задачей искусства является облачение морали в художественную форму. К произведениям такого рода следует относить и романы, – пишет Порошин. Романы существовали ещё в античности; некоторые греческие и римские романы известны и сегодня. Однако «в наши дни» роман, к несчастью, подвергается нападкам за большой вред и малую пользу. Причиной тому стало резкое увеличение количества романов на французском и немецком языках. Среди них, действительно, есть много плохих, – признает Порошин. Не только «у нас», но и везде есть тексты в стиле «Бовы Королевича», «Еруслана Лазаревича» и «Петра Златые Ключи»169. Но ругать нужно исключительно те романы, которые содержат лишь описание бессмысленных приключений и похождений и которые способны превратить любого читателя в Дон Кихота. Протестовать же против чтения «разумно написанных романов» совершенно неверно, так как они являются зеркалом человеческих нравов и развивают добродетель170.
Наличие связи с предшествующей полемикой Сумарокова не подлежит сомнению. Его тезисы опровергаются или, по крайней мере, уточняются. Порошин не оспаривает тот факт, что многие романы написаны плохо, однако расширяет понятие «хорошего» и «полезного» романа, которое у классицистов ограничивалось лишь текстами «Телемака» и «Дон Кихота». Характерно, что переводчик также упоминает романы «Бова Королевич» и «Дон Кихот», однако на этот раз – не для того, чтобы раскритиковать романы в целом, а для того, чтобы показать, что между этими двумя экстремумами остается достаточно пространства для настоящего, «полезного» и заслуживающего чтения романа – «зеркала нравов».
В литературных документах середины восемнадцатого века можно найти много других схожих статей и высказываний – как против романа, так и в его защиту171. Особенно часто они встречаются в текстах конца 1760-х годов. Именно в это время выходят в свет первые романы русских писателей, которые тоже вступают в полемику, и в большом количестве появляются сатирические журналы, где излюбленной темой становится насмешка над читателями романов и пародия на «романный стиль».
К 1770 году романная литература, несмотря на достаточно малое количество переведённых на русский язык текстов, имеет весьма разнообразный характер. В течение определённого времени пользуются популярностью рыцарские приключения, которые преобладают в рукописной традиции, однако широко представлены и в печатных изданиях. Среди них можно встретить как старые рыцарские истории, так и произведения, написанные в традиции «Амадиса», Кальпренеда, Скюдери и Лафайет, а также новейшие работы XVIII века, которые переводятся на русский язык почти сразу после публикации. Все эти тексты, различающиеся по времени появления и своей литературной ценности, одновременно достигают России и выступают как представители единого жанра – героически-галантного романа. Судя по документам того времени, ни русские читатели, ни авторы, ни критики того времени не отличают романы Мадам де Лафайет со сложным соединением мотивов и глубоко психологической трактовкой от обычных рыцарских и галантных «историй»172.
Схожее сосуществование текстов с разным временем появления, происхождением и литературным значением демонстрирует жанр «сказок». Народные сказки в обработке Перро173выходят в свет наряду с восточными сказками тысячи и одной ночи174, нравоучительными сказками Мармонтеля175 и старыми или новыми рыцарскими сказками, в отношении которых иногда также используются термины «повесть» или «история» (что хорошо отражает литературную ситуацию того времени в целом, когда провести четкие границы между «романом», «историей» и «сказкой» практически невозможно)176.
Примеры героически-галантного романа и сказки наглядно демонстрируют общее состояние романной литературы в России второй половины XVIII века. Тот путь развития, который западноевропейский роман проходит в течение нескольких столетий, здесь протекает практически за одно десятилетие. Русские читатели 1760-х годов, для которых печатный роман – пока ещё новинка, одновременно сталкиваются с почти всеми возможными типами романов из самых разных эпох. Античный роман выходит в свет тогда же, когда и псевдоклассицистские преемники его традиции177, а рыцарский роман удостаивается не меньшего внимания, чем его пародия «Дон Кихот». И если самые популярные произведения рукописной традиции попадают в печатные издания только в конце столетия, то переводы романов Руссо и Филдинга – представителей нового жанра «сентиментального», или «английского» романа – выходят уже в 1769 и 1770 годах178. К этому следует добавить, что в тот же период между 1760-м и 1770-м годами публикуются первые работы русских романистов, среди которых представлены не менее различные литературные формы: приключенческий, «философский» и «сентиментальный» романы Ф. Емина, «истории» и «сказки» М. Чулкова и М. Попова, а также плутовские рассказы Чулкова179.
В количественном отношении в этот период доминируют героически-галантные приключенческие романы или «истории», фантастичность которых усиливает экзотическое место действия. Очень часто в названиях можно встретить словосочетания «восточная повесть», «африканская повесть», «гишпанская повесть»180 и т. д. Самым продуктивным автором подобных «испанских» историй становится мадам Мадлен Анжелик Пуассон де Гомес (1684–1770). К 1766 году переводы её текстов были опубликованы восемь раз, в то время как переводы работ Лесажа – «только» четыре. Трижды выходят в свет переводы Прево и Рабенера181. Кроме того, необходимо назвать следующие имена важнейших авторов (в порядке первой публикации в России): из французов – Фенелон, Кребийон-младший, Мариво, Скаррон, Мармонтель и Вольтер; из немцев – помимо Рабенера, Геллерт.
В последних советских изданиях число книг, изданных в XVIII веке, оценивается в 11 тысяч (ср. Сидоров А. А. История русской книги. – М. – Л., 1946).
О многочисленных подражателях этого направления ср. Сиповский «Очерки» I. С. 281 и далее.
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе