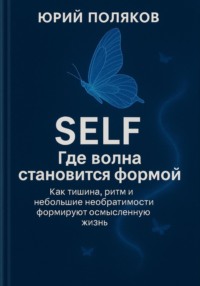Читать книгу: «SELF – Где волна становится формой»
От автора
Эта книга родилась из наблюдений за тем, как в нашей жизни возникают скрытые ритмы. Мы привыкли думать, что смысл формируется в словах или действиях, но чаще он рождается в паузах, в неожиданных совпадениях, в тех маленьких сдвигах, что меняют направление целого пути.
Я не стремился дать готовые ответы. Скорее – предложить карту, которая помогает ориентироваться в собственных состояниях и в мире вокруг. Каждая глава – это приглашение к соучастию: к тому, чтобы вслушаться, уловить, отразить.
Может быть, читая эти страницы, вы узнаете себя в описанных движениях. Может быть, обнаружите собственный ритм, которому давно искали имя. Если так, значит цель достигнута – книга стала мостом между тишиной и действием, между внутренним и внешним.
Пролог
Self – это не вещь и не картинка.
Self – это динамический процесс контакта индивида с миром и его способность творчески адаптироваться к среде; а в селф-психологии – центральное понятие, фокусирующееся на переживаниях самости и её развитии. Мы не «имеем» самость – мы ею становимся, каждый раз, когда встречаемся с сопротивлением и отвечаем не привычкой, а живым жестом.
Как устроены волны?
Как и всё – непреодолимо загадочно.
Но из них, как и из всего, можно сделать зеркало. Чтобы взглянуть не на отражение лица, а на узор себя: как мы входим в мир, как удерживаем его вес, как отпускаем то, что держать нельзя. Зачем ещё они нужны?
Волна – это форма отношения. Никакой тайной метафизики: в любой минуте между нами и миром гуляет невидимая колебательная среда – внимание, тембр, ритм. Мы говорим словом – но до слова доходит именно качание: пауза, интонация, мера. Волна без формы – шум. Форма без волны – мёртвый контур. Там, где они встречаются, появляется самость как переживаемая целостность: не маска и не роль, а способность быть тем, кто способен быть.
Эта книга – не о славе и не о «личностном росте». Она о поведении. О малых необратимостях, из которых собирается жизнь достойного размера. О том, как волна становится формой – не в поэзии, а на кухонном столе: в письме на один экран, в отказе, который бережёт ядро, в тишине, которая возвращает смысл словам.
Мы начнём с простого, почти бытового утверждения: Self живёт в контакте. Не в одиночной камере «я», не в музеях прошлого, а в том, что с нами происходит между. Там, где «я» встречает сопротивление мира – сроки, усталость, другого человека – и отвечает не ломкой и не бегством, а творческой подстройкой. Подстройка – не угодничество. Это способность находить такую форму, в которой живы и мы, и то, ради чего делаем.
Селф-психология когда-то сместила фокус с поведения на переживание: не «что ты сделал», а «как ты себя чувствуешь и собираешь изнутри». Мы не спорим с этим фокусом – мы добавляем к нему ремесло: как перевести переживание в действие, чтобы оно не оставалось благородной декларацией. Потому что без действия Self рассыпается на красивые осколки. А действие без переживания превращается в холодный механизм, который стачивает нас о задачу.
Здесь пригодится образ волны. Волна – это темп. Самость звучит тембром и держится темпом. Если темп навязан извне, мы живём в чужой музыке, и даже успех ощущается как усталость. Если темп отсутствует, нас размывает случайность, и даже искренность звучит фальшиво. Темп, рождённый в контакте, узнаётся телом: ему легче. В этой книге мы будем возвращать телу право голосовать – против красивого, но бесполезного.
Волна – это ещё и настройка. Мы позволяем миру дать нам ноту – не чтобы раствориться, а чтобы попасть в унисон с реальностью достаточной плотности. Настройка не делает нас тише навсегда; она убирает лишний шум здесь и сейчас. Так рождается форма, которая не просит объяснений.
Наконец, волна – это зеркало. Если присмотреться к собственным качаниям – чем мы заполняем паузы, каких слов избегаем, где ускоряемся из страха, где тянем из тщеславия, – становится видно какой Self мы строим. Зеркало не судит; оно показывает. И это уже половина работы.
Мы будем говорить о четырёх движениях – узнавании, входе, удержании и развязке – как о одной каденции взросления. Не как о методике, а как о порядке дыхания. Узнавание даёт «да» без аргументов. Вход превращает это «да» в первый факт. Удержание спасает форму от нашей же страсти. Развязка освобождает воздух и возвращает меру. Вокруг этих опор выстроятся главы о простоте, праве на медленный ответ, силе отказа, живом контакте, памяти формы и архитектуре дня. Это – не лозунги, а инструменты снижения трения между волной и формой.
Что важно услышать сразу:
Тише.
Скорость – не уважение. Уважение – это ответ, который держится без нас.
Меньше.
Простота – не бедность, а ясная мера. Мы отказываем лишнему, чтобы хватило на живое.
Достаточно.
Идеал – завистлив. Достаточное – верно. В нём есть будущее.
Мы не будем мистифицировать совпадения. Мы признаем их как побочный эффект хорошей проводимости: когда поле не забито долгами и театром, жизнь чаще рифмуется с нашими жестами. Мы не будем обещать «новую личность». Мы предложим новую практику: серия малых необратимостей, которые меняют не картинку о себе, а траекторию.
Для кого эта книга? Для тех, кто устал «держать лицо» и хочет научиться держать форму. Для тех, кто чувствует дар волны – интуиции, совпадений, тонких нитей – и ищет язык, на котором этот дар не растворится в красивых разговорах. Для тех, кто выбирает долговечность вместо салюта.
Как читать? Не как манифест, а как настольная тетрадь. Берите из неё один жест – короткое письмо, тихий отказ, сервисную неделю, минутный нуль – и смотрите, как меняется воздух. Если воздух становится легче – вы на верной частоте. Если вязнет – ищите излишек: где греем комнату словами, где крадём чужой день, где прячем страх под «ещё чуть-чуть».
Волны останутся загадкой.
И хорошо.
Не всё в нас нуждается в объяснении. Но всё нуждается в бережной форме. Мы можем не разгадать океан, и всё же построить лодку, которая пройдёт пролив. Мы можем не понять до конца, как слышит судьба, и всё же говорить с ней языком факта, меры и тишины.
Эта книга – приглашение к такому разговору.
С миром.
С другим.
С собой.
Зеркало у нас уже в руках. Осталось решиться войти – и держать.
I. Тишина, из которой начинают
«Просветления не достигают, воображая фигуры света – его достигают, делая тьму сознательной». – К. Г. Юнг
Иногда лучший способ начать – не начинать. Сидеть перед листом, не заполняя его, пока внутри не уляжется то, что требует права голоса. Тишина не пустая: она слушает, сортирует, смещает приоритеты. В ней появляется первая честная фраза – не «о чём будет день», а «что уже правда и что нельзя делать сейчас». Мы привыкли бояться этих нескольких минут как провала в продуктивности. На самом деле это время, когда волна собирается в амплитуду, чтобы форма потом держалась без театра.
Тишина похожа на старинный камертон: коснёшься – и слышишь базовую ноту, к которой подтягивается всё остальное. У каждого свой тембр этой ноты. Характерно, что он редко совпадает с тем, что о нас говорят: внешние описания громки и спешны, а собственная частота – почти неслышна, пока её не защитишь от шума. Тишина – не каприз интровертов и не роскошь уставших; это способ вернуть себе право начинать не с оправданий.
Город на рассвете – хороший учитель. Он ещё не стал бесконечным советом, не проснулся театр срочности. Птицы кричат до автобусов, и в этих нескольких минутах можно услышать структуру улиц – как вода находит русло. Внутри человека это русло тоже есть: если его не отрыть утром, потом подменишь направление скоростью. Невозможно идти туда, где не выложена тропа смысла, как бы ни толкали понятные цели.
Что делает тишина с мыслью? Она убирает вежливость с пустоты. Там, где мы привыкли прикрывать неопределённость разогретыми формулировками, возникают короткие и неприглядные «не знаю», «не туда», «рано». Эти слова редко любят на планёрках, но именно они экономят месяцы – потому что прекращают спор с реальностью. Удивительно, как быстро появляется мужество быть точным, когда перестаёшь играть в осведомлённость. И как осторожно, но твёрдо перестраиваются связи вокруг тебя: людям становится спокойнее, когда слышат не обещания, а опорные факты.
Тишина не равна паузе. Пауза – техническая задержка, неловкое «э-э» между тезисами. Тишина – содержательна. В ней не молчат из вежливости; в ней отбирают то, что действительно можно вынести наружу. Это работа без аплодисментов. Она редко видна, как закладка фундамента. Но если фундамент не прогрунтовать, дом будет всегда «чуть-чуть» дрожать – и ты будешь подпирать стены харизмой, кофеином и новыми планами.
Есть сопротивление, которое неизменно приходит вместе с тишиной. Оно шепчет, что это роскошь. Что настоящий взрослый – это тот, кто начинает сразу, чтобы показать скорость. Но скорость – плохой адвокат. Она не доказывает, что ты живой, – она доказывает, что ты испуган. Мы привыкли откупаться от собственной тревоги бегом на месте. Снаружи это выглядит как деятельная доблесть, внутри – как кража воздуха, который нужен волне, чтобы стать формой. Тишина возвращает право не доказывать. Не надо становиться «хуже себя», чтобы заслужить право на работу.
В тишине очень быстро становятся видны скрытые долги. Те самые, которые мы копим не протоколами, а интонацией. Ты слышишь, где обещал не из сердца, а из страха быть отвергнутым; где говорил «я сделаю», а имел в виду «может быть, кто-то сделает за меня». Неловкость от этого распознавания остра, но полезна: она учит не начинать с того, что красиво, – начинать с того, что тянет. И это не про аскезу. Это про достоинство: выбирать то, что выдержишь, и не отдавать собственную меру в аренду чужим ожиданиям.
Тишина меняет язык. Он становится суше – и вдруг теплее. Фразы перестают соревноваться, кто длиннее; исчезают вежливые фальш-уточнения «в целом», «на самом деле», «как бы». В языке появляется вертикаль: факт – связь – намерение. Странным образом такой язык легче прощает ошибки: когда что-то идёт не так, не надо склеивать разрыв литературой. Достаточно назвать его настоящим временем – и решить, что делаем теперь. Это и есть взрослая гигиена речи: не украшать, а держать проводимость.
Есть ещё один парадокс. Мы боимся, что тишина замедлит. На практике она ускоряет. Не потому, что даёт «лучший план», – тишина даёт короче путь. Она убирает варианты, которые создают ощущение возможностей, но не ведут к живому контакту с делом. Когда остаётся единственная тропа, по ней идёшь спокойнее – и быстрее. Любая команда, однажды попробовавшая открывать встречу минутой молчаливого «ноля», знает это чувство: в комнате становится теснее от смысла и просторнее от правды.
Тишина – место, где охраняют границы. Самая важная из них – право на медленный ответ. Оно звучит дерзко в мире, где «сейчас» стало вежливой формой просьбы. Но вежливость – не когда отвечаешь мгновенно, а когда не крадёшь у другого день. Тишина даёт способность держать «сейчас» только там, где горит. Во всём остальном она возвращает старое ремесленное правило: пусть будет точно, а не «быстро». Мы делаем вещи для людей, а не для таймлайнов.
Может показаться, что эта глава – оправдание лени. Но ленивый человек тишину не выносит. Он прячет её под шумом задач, чтобы не встретиться с ответственностью. Тишина, наоборот, поднимает ответственность на поверхность: там слышно, какую маленькую необратимость действительно можно совершить сегодня. Там слышно, у кого попросить прощения, что отложить, а что отпустить. Там слышно, где «да» выросло на каменистой почве и не выживет. Там, наконец, слышно своё «нет» – чистое и без злобы, от которого зависит прочность всех последующих «да».
У тишины есть враги – не внешние, внутренние. Первый – привычка заполнять промежутки объяснениями. Мы так часто боимся показаться жесткими, что прикрываем ясность текстильной мягкостью. Второй – игра в осведомлённость: маленькая зависимость, с которой начинают многие профессионалы. Они узнают много, чтобы меньше чувствовать. Третий – образ «героя», которому нечего молчать, потому что у него есть ответы. Эти враги не злонамеренны, они просто любят шум. Тишина не воюет с ними. Она светит. Когда становится светло, многие привычки сами смещаются.
Зачем этой книге начинать с тишины? Потому что всё остальное – уже её следствия. Этюд без публикации, который кормит рост. Удержание формы без позы, когда плато – не конец, а станция сервиса. Лидерство как дозировка, а не бедность харизмы. Культура, в которой воздух не воруют. Судьба, которая перестаёт быть диктатом внешнего и становится смещением вероятностей через малые, но честные шаги. Всё это требует одной и той же базовой смелости: выдержать несколько минут без слов – и услышать, что действительно просится в мир.
В тишине не рождаются ответы. В ней рождаются достойные вопросы. Мир не обязан отвечать нам сразу – и уж точно не обязан подтверждать наш план. Но если вопрос сформулирован честно, он притягивает материалы, людей, совпадения. Юнг называл это «смысловой связностью»; повседневная жизнь называет это «совпало удачно». Мы не умеем ею управлять, но мы можем быть готовы. Тишина – способ быть готовыми.
Настоящая тишина никогда не беззвучна. В ней шуршит бумага, скользит свет, дышит окно. В ней слышно дыхание собственных границ и то, как они расширяются, когда перестаёшь оправдываться. И именно здесь появляется невидимый жест, с которого начнутся следующие главы: скромная, но твёрдая готовность начать меньшее, чем хочется, чтобы получить большее, чем планировалось. Не ради хитрости, а ради гармонии формы с волной.
Мы часто ищем благословения на старт – извне. Ждём, когда подтвердят важность, оценят намерение, согласятся с выбором. Тишина возвращает другой порядок: сначала соглашаешься сам. Не с результатом – с ритмом. Ты соглашаешься жить в темпе, который выдержит твой смысл, а не твоё тщеславие. И если это соглашение состоялось, день удивительным образом складывается в пользу простоты. Ты говоришь короче. Обещаешь меньше. Честнее благодаришь. Чаще позволяешь себе «не знаю». И от этого не теряешь статуса – обретаешь форму.
Возможно, именно поэтому самые сильные союзы – творческие, научные, человеческие – начинаются не с громких деклараций, а с тихого согласия на общий ритм. Два человека замедляются настолько, чтобы услышать, где их частоты не спорят, а складываются. Там и появляется поле, в котором легче работать и легче прощать. И там же меньше соблазна украсть воздух друг у друга – потому что видно, какой хрупкой ценой добыто это общее «между».
Последняя деталь, важная на всю книгу: тишина – не раз и навсегда. Она не клятва, а навык. Её легко потерять и легко вернуть: достаточно остановиться на минуту, назвать настоящим временем то, что есть, и отрезать то, что не помещается в этот цикл. Это не делает нас святыми и не освобождает от ошибок. Это делает нас честными в моменте – и этого достаточно, чтобы началась форма.
Дальше мы будем говорить о достоинстве действия, об отказе и выборе, о культивировании воздуха и о том, как волна становится формой. Но если какая-то часть этой книги останется с вами, пусть останется эта: право начинать из тишины – не привилегия, а обязанность перед своим делом. Без него всё остальное неизбежно превращается в шоу. С ним – даже маленькое становится достаточным, чтобы мир сделал полшага навстречу.
II. Достоинство действия
«Бог изощрён, но не злонамерен». – А. Эйнштейн
Достоинство – не маска и не манеры. Это внутренняя геометрия действия: как волна входит в поле и не рушит форму, а наполняет её. У неё нет героического блеска; это не тот момент, когда прожекторы ловят ваш профиль. Достоинство – как невидимая несущая в архитектуре: пока она цела, можно жить, работать, любить, и дом не просит аплодисментов за то, что стоит.
Иногда его принимают за холод. На самом деле это другое тепло – не к телу, а к структуре. Человек с достоинством словно бережно прижимает ладонь к поверхности происходящего и чувствует: здесь тонко, здесь тянет, здесь ещё сырой раствор. Он не ускоряет время, не подменяет тишину шумом, не прикрывает трещины словами. Он уважает сопротивление реальности. И именно поэтому реальность отвечает согласием.
Достоинство – это согласие с необходимостью. Не в смысле покорности судьбе, а в смысле качества, с которым ты входишь в чужие границы: материала, хронометра, другого человека. Мрамор не обманешь: у него своя крупность, своя усталость, своя скрытая линия разлома. Тот, кто резцом «доказывает характер», ломает статую ещё до первого удара. Тот, кто прислушивается к блеску и шороху зерна, освобождает из камня форму, как будто она там ждала именно его. Это и есть достоинство действия – когда ты не насилуешь форму своим замыслом, а ведёшь с ней разговор.
У него своя этика речи. В ней мало будущего времени и много настоящего. Там, где другие наращивают суффиксы вежливости, достоинство делает шаг назад и снимает украшения. Вместо «давайте постараемся обеспечить расширенную оптимизацию» прозвучит спокойное «делаем одно» – и живой факт через два дня. Он не пугается простой фразы, потому что простота здесь не бедность мысли, а отказ от лишнего театра. Эйнштейновское «как можно проще, но не проще» – про эту меру: сделать так, чтобы не шевелилось лишнее, и не вырезать то, на чём держится.
Достоинство – это ещё и отношение ко времени. Оно знает, что скорость не равна силе. Взрослость не измеряется количеством «срочно», как мужество не измеряется числом шрамов. Быстрое часто играет на публику; достойное – на глубину. Быстрое приходит раньше смысла и забирает его у тех, кому он нужен. Достойное не торгуется за лицо, оно тихо доводит мысль до факта и отдаёт факт миру. В этом жесте нет демонстрации: просто работа завершена, и её можно положить на стол.
Есть в достоинстве и странная мягкость отказа. Отказ как забота, а не как холод. Он не унижает просьбу; он поддерживает несущую. «Сейчас я не удержу это с нужной мерой», – звучит спокойнее и честнее, чем «давайте позже» с тонкой надеждой, что всё само рассосётся. Такой отказ не «закрывает двери», он оставляет двери живыми: однажды, когда мера появится, туда можно будет войти без остаточного стыда.
Иногда достоинство – это умение быть бесшумно радостным. Не распространять чужой успех в соцсетях от имени своей зависти, не объяснять, почему этому человеку «повезло», не демонтировать чужое счастье до механики. Радость без «но» – очищающее действие. Оно не вежливое, оно сильное. Оно говорит миру: «я принимаю порядок, в котором вещи случились». И мир отвечает тем же – не потому, что мир справедлив, а потому что ты перестаёшь спорить с его ритмом.
В ремёслах достоинство видно особенно: в камне и бумаге нет куда спрятаться. Каллиграф знает, что каждая линия – необратимость; ты не «улучшаешь её потом», ты либо попал в дыхание, либо нет. Плотник не соблазняется глянцем лака, если у доски пустое сердце; он разворачивает волокно так, чтобы оно не треснуло зимой. Садовник не «ускоряет плод», он терпит корневую работу. Во всех этих жестах сквозит одно и то же: уважение к сопротивлению. Ты не бесконечен; твоя форма не бесконечна; мир не обязан поддаться. И если это признано – начинается настоящее мастерство.
Достоинство меняет экономику благодарности. Вместо громкой раздачи «спасибо всем» происходит тихое, почти инженерное именование: за что, кому, чем это изменило ход работы. Такая благодарность не раздувает чужую роль и не распластывает её по залу; она отчитывается перед реальностью. В этом нет сухости – в этом справедливость. Люди начинают помнить не восторг, а то, где именно они держали несущую. Из этого материала строится доверие – не тёплый климат «мы молодцы», а твердая опора «мы можем полагаться».
Иногда достоинство – это намеренное «меньше». Не потому, что «меньше – модно», а потому, что лишнее ворует дыхание у нужного. Этот выбор редко красив в моменте: придётся закрыть проект, который «обещал имидж», отказаться от соблазна «масштабироваться», пока ядро дрожит, снять презентацию, где батарея красивых слов наложена на пустой каркас. Но если вы однажды видели, как изделие, очищенное от лишнего, начинает звучать, как скрипка, вы уже не сможете любить избыток. Красота здесь – в строгости, а строгость – в милосердии к тому, что должно остаться.
Достоинство – это дисциплина границ. Оно не войдёт в чужую комнату без стука, не обрушит на другого свои бессонные ночи, не потребует мгновенной реакции, как доказательства любви. В любви, кстати, достоинство особенно заметно: оно не торгуется интимными жестами, не собирает долг благодарности, не предъявляет чек за свою доброту. Оно говорит простое: «я здесь» – и это не значит «ты мне обязан». Такое «я здесь» выдерживает годы. Это слово весит, потому что за ним стоит форма поведения, а не риторика.
К достоинству примешивается мудрость языков. Оно чувствует, где слово несёт, а где крадёт воздух. Оно узнаёт жесты привычки: «на самом деле», «в целом», «как бы» – мягкие маски для страха назвать вещь. И снимает их. Не из пуризма, а из уважения к слуху другого. Когда вместо «синергировать» вы говорите «встретимся», вместо «снять риски коммуникации» – «не будем писать ночью», вместо «эскалировать кейс» – «позвоню и скажу», – вы возвращаете языку его служение. Язык не должен впечатлять; он должен проводить.
И всё же достоинство – не одно лишь воздержание. Это ещё и смелость. Сказать «я сделал» там, где удобно спрятаться в коллектив. Признать «я ошибся» там, где выгодно размыть ответственность. Взять на себя «я начну» там, где все ждут чьего-то разрешения. Смелость достоинства не дерётся за картинку, она подписывает документ. И в этой подписи – всё: риск, мера, готовность расплатиться. Подпись весит, когда ты не изображаешь тяжесть.
Есть тонкий момент, где достоинство встречается с судьбой. Оно не суеверно, но чувствительно. Мы не управляем ветрами, но можем ставить парус под свою широту. Маленькая поправка угла иногда решает исход плавания сильнее, чем тройной экипаж. Достоинство – это именно эта поправка: отказ от крика к небу в пользу точного движения шкотом. Ты не обвиняешь ветер и не требуешь благословения; ты благородно и спокойно принимаешь данные, меняешь курс на два градуса – и через мили оказываешься в другой воде. Чудес нет. Есть чувствительность к начальным условиям и способность не портить поле.
Когда достоинство входит в команду, меняется климат. Исчезает нужда в демонстрационном труде. Снижается громкость. Возрастает вес коротких договорённостей. Письма становятся короче и реже – не потому, что «регламент», а потому, что каждое слово стоит труда. Встречи прекращают быть местом для прелюдий – они становятся местом для развязок. Парадоксально, но именно так появляется место и для игры, и для праздника: радость обретает содержание, а не компенсирует пустоту.
Философски достоинство – это искусство быть конечным. Мы не бесконечны в знаниях, часах, внимании, любви. Достоинство сообщает эту конечность миру не как оправдание, а как правило игры. Кто-то назовёт это скромностью; точнее – ясностью. Когда ясность принята, исчезает позор нехватки. Недостаток времени, сил, денег перестаёт быть стыдом – он становится данностью, вокруг которой строится форма. С этой высоты смешно выглядят прежние стратегии: «доказывать» объёмом, «обгонять» шумом, «выигрывать» глянцем.
Достоинство не устраивает дуэлей с эпохой. Оно не пишет трактатов против «инфошума», не осуждает «ленивых», не проповедует «возвращение к корням» как моральный долг. Оно просто возвращает себе право работать по-человечески. Капля за каплей. Одним швом за вечер. Одним письмом без украшений. Одной благодарностью, названной по имени. В этой скромности – величие, потому что она создаёт поле, где волна может сделаться формой без насилия.
И ещё: достоинство умеет уходить. Не из обиды, не из позы, не ради красивой точки в биографии. Уходить тогда, когда твоя несущая больше не совпадает с требованиями среды, и оставаться означало бы обманывать обоих. Уход по любви к делу – не трусость, а последняя форма заботы. Здесь тоже слышен звук достоинства: он тихий, как закрывающаяся дверь в дом, где всё вымыто и на столе записка с благодарностью.
В жизни каждого бывают дни, когда кажется, что вежливее всего – согласиться на ещё один спектакль. Достоинство предлагает альтернативу: отказаться от роли, которая крадёт смысл, и вернуться к ремеслу. Писать так, как будто читают живые; строить так, как будто жить будут дети; говорить так, как будто у слова есть цена. Этот выбор не делает вас ангелом. Он делает вас человеком, с которым можно иметь дело. В мире, где многое существует «для вида», это уже почти достаточное чудо.
В конце этого размышления не хочется давать «правила». Хочется оставить образ. Вы на берегу и держите лодку, которую пора спустить на воду. Ветер ровный, но ещё не ваш. Вы делаете два маленьких шага: ослабляете верёвку и поднимаете парус не до конца. Лодка шуршит, задирает нос, просит лишнее – вы не даёте. И вдруг – складывается. Парус берёт ветер точно настолько, чтобы не рвать ткань. Это и есть достоинство действия: не поддаться порыву, чтобы сохранить движение. На таком курсе далеко не крикнешь, но далеко уйдёшь.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе