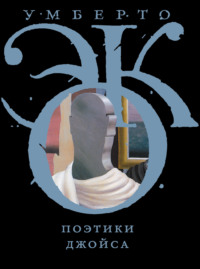Цитаты из книги «Поэтики Джойса», страница 4

У Вико Джойса, должно быть, поразила необходимость «некоего
умственного языка, общего всем нациям» - конечно, понятного в высшей
степени субъективно и воплощённого в многоязычии «Помина». Значение
филологических наук, посредством языка добирающихся до свойств и
происхождения вещей, «следуя порядку идей, по которому должна протекать
история языков», а тем самым – обоснование и филологическая
интерпретация мифа, сравнение языков, открытие некоего «умственного
словаря», в коем разъясняются вещи, «которые, по сути дела, одинаково
услышали все народы, объяснив их на разные лады на различных языках»;
изучение древних традиций как сокровищниц незапамятных истин и,
наконец, склонность к собранию «великих обломков древности» - всё это
Джойс осуществляет на уровне языка (конечно, по-своему), так что его
поэтику и его художественные результаты следует рассматривать не как
осуществление указаний Вико, но как его глубоко личный отклик на мысли,
внушённые текстом неаполитанского философа. А ещё у Вико поразило
Джойса оправдание первобытной поэтической логики, в силу которой люди
ещё не говорят согласно природе вещей, но используют «речь
фантастическую, пользуясь посредством одушевлённых субстанций». «Из
этой поэтической логики проистекают все первые тропы, из коих самой
блистательной (и потому наиболее необходимой и самой частой) является
метафора, каковую хвалят ещё больше тогда, когда она придаёт смысл и
страсть вещам бессмысленным».

Вико нужен Джойсу также для того, чтобы придать общую схему
развития его убеждениям, восходящим к Бруно и Копернику, и чтобы
запустить танец противоположностей в рамках некоей динамической
картины. Но Вико, наконец, должен был поразить его и той живостью, с
которой он указывал на значение мифа и языка, своим взглядом на
первобытное общество, которое посредством языка, при помощи
фигуральных выражений, создаёт свой собственный образ мира.
Несомненно, Джойса поразил образ «немногочисленных гигантов» (а Финн
Мак-Кул был гигантом), впервые обративших внимание на голос божества
благодаря грому («Небо наконец заблистало и загремело устрашающими
молниями и громами») и начинающих осознавать необходимость дать
имя неизвестному . Гром из «Новой науки» появляется на первой
странице «Помина», и это гром, уже получивший название, сведённый к
языку; но речь идёт о громе, ещё не осмысленном, представляющем собою
сплошную ономатопею (и в то же время исчерпанный язык, язык варварства,
приходящего на смену столь многим культурным циклам, поскольку на деле
эта ономатопея составлена из сочетаний слова «гром» на различных языках):
«bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhoun
awnskawntoohoohoordenenthurnuk!». В «Помине» гром из книги Вико
совпадает с грохотом падения Финнегана, но вследствие этого падения
предпринимается попытка дать имя неизвестному и хаосу, как это произошло
с первыми гигантами.

«Улисс» был, как мы пытались
показать, примером парадоксального равновесия между формами
отверженного мира и беспорядочным содержанием мира нового, то
следующее произведение попытается стать изображением хаоса и
множественности, в пределах которой автор будет искать наиболее
родственные ей модусы порядка. Культурным опытом, побудившим принять
такое решение, стало чтение Вико.

Таким образом, он решает, что его книга будет написана «согласно
эстетике сновидения, где каждая форма умножается и продлевается, где
видения переходят из тривиальных в апокалиптические, где мозг пользуется
корнями слов, чтобы извлечь из них другие, способные поименовать его
фантазмы, его аллегории, его аллюзии». Итак, с самого начала
«Финнеганов помин» предвещает себя таким, каким он будет: ночным
эпосом двусмысленности и метаморфозы, мифом о смерти и всеобщем
воскресении, в котором каждая фигура и каждое слово встанет на место всех
других, так что чётких границ между событиями не будет, и каждое событие
будет подразумевать все остальные в чём-то вроде первоначального
единства, не исключающего столкновения и оппозиции между членами,
образующими пары противоположностей.

Такова схема, упрощённая сверх всякого предела, не принимающая во
внимание горы исторических фактов и культурных аллюзий, не учитывающая персонификаций и трансформаций, которые происходят с
основными персонажами и которые Джойс постепенно прибавляет в ходе
редакции, переходя от вариантов достаточно простых и внятных к текстам
всё более насыщенным и запутанным, в которых сложность вкладывается в
самое сердце слов, в их этимологические корни . У Джойса с самого
начала было чёткое представление о том, что если «Улисс» был историей
одного дня, то «Финнеганов помин» будет историей одной ночи. Поэтому
идея сновидения (и сна) с самого начала главенствует в общем плане
произведения, хотя порою оно несколько систематизируется, претерпевая
процесс, который автор уподобляет конструкции mah jong puzzle .
«Я усыпил язык», «Я дошёл до пределов английского» - вот те
выражения, посредством которых автор с самого начала описывает свою
деятельность.

Поиск поэтики «Помина», понимаемой как
система оперативных правил, предшествовавших созданию произведения,
становится делом безнадежным, поскольку, как показывают даже разные
редакции текста, правила эти постепенно менялись, и окончательный проект
существенно отличается от первоначального106. Но, в отличие от многих
других книг, «Финнеганов помин» и не обязывает нас искать тексты по
поэтике, созданные до него или безотносительно к нему: эта книга, как мы
увидим, представляет собою непрерывную поэтику самой себя, и
рассмотрение этого произведения, любой части этого произведения, поможет
нам прояснить идею, на которой оно основывается. Как говорил Джойс: «Я
хотел бы, чтобы можно было взять любую страницу моей книги и сразу
понять, о какой именно книге идёт речь».

Казалось, «Улисс» нарушил все границы техники романа – но
«Финнеганов помин» преодолевает эти границы, выходя за пределы
мыслимого. Казалось, в «Улиссе» язык показал всё, на что он способен, - но
«Финнеганов помин» выводит язык за все мыслимые пределы податливости
и «проводимости». Казалось, «Улисс» был самой дерзновенной попыткой
придать некий облик хаосу – а «Финнеганов помин» сам определяет себя как
chaosmos и microchasm и по своей формальной зыбкости и
семантической двусмысленности представляет собою самый ужасающий
документ из всех нам известных.

«Улисс» был образом возможной формы нашего мира; но этот образ и тот реальный мир, которому данный образ придавал форму, еще связывала некая пуповина; утверждения относительно формы мира переводились в человеческие поступки, читатель ухватывал некий общий дискурс о вещах благодаря сошествию в живую реальность вещей. Трактат по метафизике, «Улисс» был также учебником по антропологии и психологии, удобным в обращении «Бедекером» по городу, в котором каждый сын человеческий мог признать свою родину и своих соотечественников. «Финнеганов помин» становится если не трактатом по метафизике (так я не говорю), то трактатом по формальной логике, предлагающим нам в мире, ждущем от нас определения, инструменты, дающие возможность определить бесконечное число возможных форм универсума. Но между образом мира, предлагаемым нам «Помином», и нашей возможностью найти какой‑либо план движения в этом мире уже нет никакой связи. «Финнеганов помин» определяет наш универсум, уже не вовлекая нас в него; он предлагает нам, так сказать, пропозициональную функцию, которую можно заполнить любым возможным содержанием. Но он больше не предлагает нам никакого инструмента овладения миром.

… читатель вовсе не обязан понимать точное значение каждой фразы и каждого слова, даже в том случае, если после многих вглядываний вырисовывается самый конгениальный смысл. Сила слога заключается в постоянной двусмысленности и в непрерывных отзвуках множества смыслов, которые поддаются действию отбора, но не укрощаются и не уничтожаются никаким отбором.

Перед нами одиссея обычного человека, находящегося в положении изгнанника в обыденном и неизвестном мире; перед нами также аллегория современного общества и мира, данная через историю одного города; но перед нами, кроме того, и отсылка к небесному граду, сверхсмысл, намек на Троицу. Правда, в средневековой поэме сверхсмысл рождается исходя из буквального смысла и появляющиеся персонажи представляют небесную реальность, которую они иносказательно изображают, тогда как в «Улиссе» эта ситуация опрокидывается с ног на голову и реальность небесная, намеки на которую встречаются постоянно, нужна для того, чтобы воплотить конкретные события и придать им «направление». Иными словами, тринитарная схема не является, как это могло бы произойти в средневековой поэме, конечной целью рассказа, проясняющейся при том условии, что мы верно истолковываем буквальные факты; в «Улиссе» нам нужно пользоваться тринитарной схемой как неким порядком, стоящим в длинном ряду других порядков, чтобы суметь хорошо понять буквальные факты и придать некое конкретное значение той свистопляске событий, которая разворачивается перед нашими глазами.