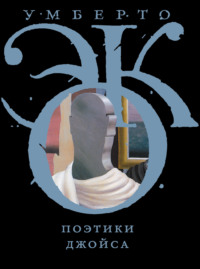Цитаты из книги «Поэтики Джойса», страница 3

Можно задаться вопросом: действительно ли даже открытие Вико, пусть и сыгравшее основополагающую роль в складывании его последнего произведения, коренным образом изменило умственную позицию Джойса, выработанную в юношеские годы? Джойс встречается с Вико уже будучи
зрелым человеком, достоверно известно, что «Новую науку» он прочёл, когда ему было уже за сорок . Истолкование истории, принадлежащее Вико, стало костяком «Помина», но на деле историзм не изменил культурной позиции Джойса. Его видение исторических циклов будет включено скорее в рамку
тревожных каббалистических умонастроений, более родственных влияниям, оказанным Возрождением, нежели современному историзму. Вико стал для Джойса полезным культурным опытом, но не эпизодом его внутренней жизни, как вынужден был признать и сам Джойс. «Вы верите в “Новую науку”?» - спросили его в одном из интервью, и он ответил: «Ни в какую науку я не верю, но сила моего воображения возрастает, когда я читаю Вико, тогда как при чтении Фрейда или Юнга этого не происходит».

...в эти годы намечаются три главные линии влияния, которые мы обнаружим во всём творчестве Джойса и в его концепциях искусства. С одной стороны – философское влияние святого Фомы Аквинского, пережившее тяжкое испытание вследствие чтения Джордано Бруно, но отнюдь не сведённое на нет; с другой стороны, благодаря Ибсену – призыв к более тесной связи между искусством и нравственным долгом; наконец, фрагментарное, но глубоко проникающее (усвоенное скорее из культурной среды, нежели из книг) влияние символистских поэтик, все искушения декадентства, эстетический идеал
жизни, посвящённой искусству, и искусства как заменителя жизни – всё это побуждает его разрешать великие проблемы духа в лаборатории языка.
Эти три влияния будут неизменно сказываться на всём дальнейшем развитии Джойса.

...достаточно будет очевиднейшего факта: мы можем изложить поэтику Валери, Элиота,
Стравинского, Рильке или Паунда, не обращаясь к творчеству этих авторов, и
ещё менее – к их биографии. Однако в случае Джойса, чтобы понять развитие
его поэтики, нужно постоянно оглядываться на его духовное развитие или,
скорее, на развитие того персонажа, который постоянно возвращается в ходе
создания грандиозной биографической фрески, образуемой разными его
произведениями, как бы этот персонаж ни назывался – Стивеном Дедалом,
Блумом или Х.К.Иэрвикером (H.C.Earwicker). Таким образом, мы видим, что
поэтика Джойса как некая отправная точка зрения, помогающая понять
произведение, не имеет силы отсылки за его пределами, - напротив, она составляет неотъемлемую часть этого произведения, она проясняется и
растолковывается самим произведением на различных фазах его развития.

Так, в «Помине» (как это было уже в «Улиссе», но не в таком объёме) происходит перенос явлений, описанных современными научными методологиями, в саму структуру дискурса; тем самым произведение
становится огромной эпистемологической метафорой. Заметьте: метафорой, то есть не буквальным переводом тех или иных эпистемологических ситуаций, а предложением ситуаций, структурно им аналогичных. Кроме того, в данном случае произведение невозможно и не должно сравнивать с какой-либо определённой системой, из которой проистекал бы тот или иной «ортодоксальный» образ: речь идёт скорее о том, чтобы вычленить в произведении мотивы, которые можно возвести к достижениям науки, зачастую друг другу противоречащим; как будто бы автор смутно почувствовал возможность видеть вещи нетрадиционно и мало-помалу применял к языку иные «оптики», находя в языке гамму перспектив, способных сосуществовать там, где, в пределах ряда строгих концептуальных определений, принятие одной из таких перспектив исключило бы все прочие.
Так, например, можно увидеть, как в этой книге ставятся под вопрос понятия времени, тождественности и причинной связи, что заставляет думать о некоторых дерзновенных космологических гипотезах, выходящих даже за пределы (и без того тревожащие) теории относительности.

Джойс читал трактат Бруно «О бесконечной вселенной и мирах», и одна из подразумеваемых и прямо выраженных аксиом «Помина» - это именно мысль о бесконечности миров, наряду с другой, самоочевидной: о метаморфической природе каждого слова, каждого этимона, готового немедленно стать «другим», разорваться в новые семантические измерения. И если Бруно подошёл к этому видению мира через открытие Коперника (в нём он узрел крушение статической и ограниченной концепции Космоса), то Джойс через посредство Бруно ещё в молодости открывает путь к тому, чтобы поставить под сомнение незыблемый и ограниченный универсум Схоластики.
Но при этом у Джойса опять же происходит слияние различных поэтик и противоречивых культурных влияний, так что последнее произведение Джойса реализует одновременно образ космоса Кузанца и Бруно и указания позднеромантической поэзии, универсум correspondances Бодлера, тождеств Рембо, окончательное слияние звука, слова и действия, о чём мечтал Вагнер, у которого, как видно вполне ясно, позаимствована техника leit motiv - все влияния символизма, приходившие к Джойсу из юношеского чтения и из откровенной книги Саймонса; а также перевод в новый культурный контекст и на более зыбкую метафизическую основу того космического дыхания, которое было свойственно великим учителям эпохи Возрождения, разбудившим Стивена от его догматического сна.

И ни одну норму поэтики нельзя с большим успехом применить к последнему произведению Джойса, чем эту рекомендацию Бруно: «Ты откроешь в самом себе возможность доподлинно совершить этот прогресс, когда тебе удастся достичь некоего различенного единства, отправляясь от некоей смешанной множественности… отправляясь от частей без формы и многообразных, приспособить к себе то всё, которое обладает формой и единством».
От приятия (и, более того, от умножения) плюральности – к единящей душе, управляющей всем: «Финнеганов помин» осуществляет это указание, становясь своей собственной поэтикой; невозможно уяснить значение того или иного слова и его отношений со всеми прочими, если не иметь в виду возможное целостное объяснение всего тома. И всё же каждое слово проясняет смысл книги, каждое слово задаёт некую перспективу взгляда на книгу и направление, ведущее к одному из возможных пониманий книги.

«Помин управляется именно тем, что он не говорит ничего нового, но
развивается как непрерывная «протеоформная» цитата всей прошлой
культуры, как непомерный каламбур. Чтобы понять этот каламбур, нужно
ухватить все намёки – коварные или учёные – на это указанное выше
наследство. Так что важно уже не то, что говорится, но сам факт того, что это
говорится и что в процессе этого «говорения» создаётся образ возможных
связей между событиями универсума. Так в первой фразе произведения
содержатся вкратце, наряду с другими ключами, два противоположных
направления толкования книги: космическо-метафизическое и учёно-
александрийское, образ возрождения и образ распада – или, точнее,
возрождения посредством полного и безоговорочного приятия распада,
изображённого в своих элементарных частицах, воспроизведённых в
лингвистическом ключе.
Так лингвистический аппарат превращается в свидетельство некоего
состояния культуры и в то же время в образ возможных связей между
событиями универсума, безграничной эпистемологической метафорой,
словесным замещением тех связей, которыми наука оперативно пользуется,
чтобы объяснить события.

...текучесть универсума
«Помина»: текучесть временных и пространственных ситуаций, взаимное
наложение исторических времён, двусмысленность символов, взаимообмен
функциями между персонажами, многоразличное понимание характеров и
ситуаций и, наконец, полная текучесть лингвистического аппарата, в котором
каждое слово, сконструированное как каламбур, является не одним, а
несколькими словами, а каждая вещь – своей противоположностью. Эта
ситуация неопределённости составляет самую суть Джойсова универсума,
указывая и на кризис, и на победу над кризисом; она выражает собою
двусмысленность и утрату традиционных центров, но в то же время –
законность нового видения, которое Джойс притязает дать посредством
метафизики истории Вико.

Теперь нам понятно «культурное» основание «Помина»: сведя
реальность к миру мифов, традиций, осколков древности, тех слов, которыми
человек обозначал свои переживания и придавал им смысл, Джойс пытается
сплавить их в амальгаме сна, чтобы в этой исконной свободе, в этой зоне
плодотворной двусмысленности обнаружить новый порядок универсума,
освобождённый от тирании древних традиций. Начальное падение создаёт
благоприятное условие для варварства, для культурнейшего варварства,
изнанку которого составляет весь предшествующий опыт человечества. Всё
течёт в некоем беспорядочном первобытном потоке, всякая вещь является
собственной противоположностью, всякая вещь может быть связана со всеми
другими; нет ни одного нового события, нечто подобное уже происходило в
прошлом, и всегда возможен повтор, возможна связь; всё беспорядочно
перетасовано, а потому всё может измениться. Если история – непрерывный
цикл чередований и возвращений, то она не обладает тем свойством
необратимости, которое сейчас мы обычно приписываем Истории; всякое
событие происходит одновременно с другими; прошлое, настоящее и
будущее совпадают друг с другом . Но раз каждая вещь существует
постольку, поскольку она названа, то всё это движение, эта игра постоянных
метаморфоз сможет осуществится только в словах, и pun, каламбур, станет
пружиной этого процесса. Джойс вступает в великий поток языка, чтобы
овладеть им, а в нём – и всем миром.

И если Джойса захватила мысль Вико о том, что «человек падший,
отчаявшись во всякой помощи от природы, желает чего-то высшего, что
принесёт ему спасение», то Джойс, проявляя склонность к компромиссу и
произвольному сопоставлению, которую мы уже признали за ним ранее (он
объединяет выдвинутое Вико требование усилия, направленного ко
спасению, с высказанным Бруно убеждением в том, что открытие Бога
совершилось благодаря полному приятию мира, а не стремлению к
трансценденции), даёт образ мирового цикла, сочетающего движение вперёд
и возвращение и становящегося путём ко спасению благодаря приятию того
кругообращения, в котором он бесконечно разворачивается. Однако,
вдохновляясь страницами о творческом значении языка, Джойс уподобляет
естественное творение культурному творчеству человечества, отождествляет
реальное с «высказанным», природные данные – с произведениями культуры
(и, наконец, verum c factum*) и признаёт мир только в этой диалектике
тропов и метафор и только через их посредство, выявляя (как он это уже
делал в «Улиссе») присутствие «вещей бессмысленных», придаёт им «смысл
и страсть».