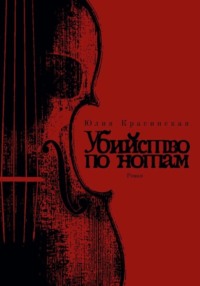Читать книгу: «Убийство по нотам»
Роман
«Убийство по нотам»
Часть 1. «Экспозиция»
Глава 1. «Фальшивая нота»
Маэстро Виктор Орлов шел по длинному, погружённому во мрак, коридору.
Вечерами, когда не было концертов, освещение во всем здании, кроме большого зала, было приглушённым. Вот уже двадцать пять лет изо дня в день он ходит этим незамысловатым маршрутом, бесшумно преодолевая по мягкой красной дорожке расстояние от своей дирижерской комнаты до концертного зала. Двадцать пять сезонов. Двадцать пять лет жизни, отданной этому месту, этому оркестру – его единственной семье. В его груди, под строгим пиджаком, заныла старая рана – не физическая, а та, что осталась от расставания с прошлым, с той жизнью, где он когда-то был другим человеком.
Взгляд, так и не отвыкший за эти годы подмечать детали, скользнул по висящим на стенах картинам современных художников. Дань моде – временные выставки-распродажи современников, которую и их классическому заведению избежать не удалось.
За тяжелыми шторами, глушащими звуки города, хлестал затяжной осенний дождь. Студеные струи текли по стёклам, размывая силуэт здания Главного штаба и стремящейся в серое небо Александровской колонны. Здесь же, внутри было тепло и по-своему уютно. Откуда-то издалека доносились глухие звуки настраиваемых инструментов – оркестр неторопливо просыпался перед работой.
Пройдя через длинный коридор, Орлов привычно толкнул тяжелую дверь, ведущую в зал. Ту самую заветную дверь, через которую на сцену вместе с музыкантами входит и волшебство. Звуковой поток обрушился на него во всей своей мощи. Вместе с ярким, ослепляющим светом висящих на стенах бра.
Пространство концертного зала с высокими сводами и рядами пультов жило своей жизнью. Музыканты в ожидании дирижера занимались каждый своим.
У первого пульта скрипок царило особенное напряжение. Настя Романова, откинувшись на спинку стула, с вызывающей небрежностью изучала свой маникюр, демонстративно игнорируя окружающих. Рядом с ней, словно тень, сидела Анна Сомова. Она нервно перебирала струны своего инструмента, издавая тихие, робкие звуки, и украдкой, с обожанием и страхом, поглядывала то на Настю, то на входную дверь.
Чуть поодаль, собрав вокруг себя небольшую группу коллег, заслуженная и самая опытная в оркестре флейтистка Людмила Щербакова вела оживленный, стрекочущий разговор, активно жестикулируя и обсуждая последние новости мира музыки. Её глаза блестели от только что добытой свежей сплетни, которой она уже знала, с кем поделится сегодня вечером.
За роялем, отстраненный ото всех, сидел Игорь Яминский. Он не настраивался и не болтал. Он с холодной, аналитической отстраненностью медленно перелистывал партитуру, его пальцы изредка порхали над клавишами, проигрывая сложные пассажи. Он был сосредоточен и непроницаем, как шахматист перед решающей партией.
В царской ложe, словно на троне, восседал Борис Левин. Нынешний меценат и спонсор оркестра. Он лениво попивал воду из хрустального стакана и с плохо скрываемой скукой водил взглядом по залу, оценивая не музыкантов, а лоты на предстоящем аукционе. Его взгляд ненадолго задержался на Насте, и в уголках его губ заиграла самодовольная улыбка.
Когда дверь в зал распахнулась и на пороге появился Орлов, шум стих, и в зале воцарилась тишина. Маэстро, не замедляя шага, прошел по сцене к своему пульту. Его холодный, лишенный эмоций взгляд скользнул по рядам музыкантов, выхватывая лица, и мгновенно считывая настроения. Все были на своих местах. Все ждали его.
Оркестр замер, и в абсолютной, оглушающей тишине был слышен лишь мерный стук дождя по арочным окнам, расположившимся высоко под потолком.
Поднявшись на своё дирижёрское место, Орлов поприветствовал музыкантов, стараясь окинуть взглядом всех и каждого. Потом длинные пальцы его легли на край пюпитра и застыли, готовые в любой миг взметнуться вверх. Пауза. И вот он поднял руки.
– С первого такта. Начали.
Оркестр сделал глубокий вдох и тишину разорвали первые, яростные аккорды концерта для скрипки и фортепиано Мендельсона. Репетиция началась.
Скрипка Насти Романовой ворвалась в музыку дерзко, ярко. Её звук был не просто красивым – он был нарочито сладостным, соблазняющим, почти вызывающим. Она не просто играла ноты – она их проживала, выгибая спину в порыве страсти, бросая вызов не только музыке, но и всем присутствующим. Её пассажи были отточенными бриллиантами, вспышками самого яркого фейерверка. Она играла так, будто на сцене была она одна. Это было не исполнение, а самоутверждение.
Но за роялем сидел свой король. Игорь Яминский не пытался перекричать её. Он отвечал ей холодным, стальным совершенством. Каждая сыгранная им фраза была выверена до микрона, каждый аккорд – математически точен и неумолим. Его игра была лишена страсти Насти, но в ней была бездна интеллектуального превосходства. Он не проживал музыку – он владел ею. И в этой власти было больше силы, чем в её истеричной яркости. Он словно говорил: «Ты – вспышка эмоций. Я – фундамент, на котором все держится. Без меня твой фейерверк – просто дым».
Орлов, стоя за пультом, лишь резче и острее рубил воздух руками, пытаясь сковать эту разбегающуюся стихию в рамки замысла композитора. Но это было подобно попытке остановить двух мчащихся навстречу друг другу всадников.
Они не играли друг с другом. Они играли друг против друга. В местах, где фортепиано должно было мягко поддерживать скрипку, Яминский вдруг добавлял едва уловимую, язвительную синкопу, перетягивая внимание на себя. Там, где роялю полагалось вести мелодию, Романова вставляла собственную, усложненную и блестящую каденцию, заглушая его своей мощью. Даже их темпы едва уловимо расходились: Настя чуть затягивала, наслаждаясь звуком, Игорь – подталкивал, подгоняя нерасторопную скрипачку. Казалось, сами инструменты вступили в схватку: чувственное, пламенное пение скрипки против кристально-холодного, неумолимого интеллекта рояля.
Это была музыка-вызов, музыка-поединок.
Орлов перестал смотреть в партитуру. Его взгляд, сузившийся до двух щелочек, метался между двумя солистами. Он видел торжествующую усмешку Романовой. Видел ледяное, сосредоточенное презрение Яминского. Он видел, как Борис Левин в ложе с наслаждением наблюдает за этим музыкальным гладиаторским боем. И понимал, что это уже не репетиция. Это была война за право называться главным голосом оркестра.
Музыка гремела, прекрасная и уродливая одновременно, раздираемая внутренним конфликтом. И вот в момент сольного пассажа первых скрипок, где по замыслу дирижера должна была звучать сдержанная, почти трагическая страсть, прозвучала нота. Высокая, пронзительная, нарочито яркая и продолжительная. Она резанула слух, как осколок стекла. Это был чистый, технически безупречный звук, но он был абсолютно чужд музыке, которую играли все остальные. Он был – позерством.
Орлов не опустил рук. Он замер, и эта застывшая фигура была страшнее любого крика. Музыка захлебнулась и умерла в течение двух секунд.
– Чья это была идея? – его голос, тихий и низкий, прокатился по залу, заставляя съежиться даже ветеранов оркестра.
Все взгляды обратились к первому пульту скрипок. Настя Романова медленно опустила инструмент. Настя Романова. Его прима, его проклятие. Невероятно одаренная и столь же беспринципная. Её красота была холодной и отточенной, как лезвие стилета. Орлов видел в ней не юную ученицу, а угрозу – прекрасную, ядовитую и совершенно неуправляемую. И сейчас на её лице играла вызывающая, почти восторженная улыбка. Она поймала взгляд Бориса Левина, лениво развалившегося в царской ложе, и тот одобрительно поднял бровь, будто наблюдая за смелым экспериментом.
– Это была необходимость, маэстро, – голос Насти звенел, переполненный самоуверенностью. – Ваша трактовка устарела. Она больше не дышит. Я вдохнула жизнь в эту музыку!
В рядах оркестра кто-то, не скрывая эмоций, ахнул.
Игорь Яминский, сидевший за роялем, сжал кулаки. Он видел, как Левин ухмыльнулся. Этот богатей, ни на йоту не смыслящий в музыке, делает умный вид и всюду рассказывает о своём участии в культурной жизни. А все его участие только и заключается, что в грязных ухаживаниях за этой самопровозглашенной звездой.
– Жизнь? – переспросил Орлов, и в его голосе впервые проскользнула опасная, металлическая нотка. – Вы решили, что Ваше понимание жизни важнее партитуры? Важнее оркестра? Важнее воли композитора и дирижера?
– Я решила, что гений оправдывает средства! – парировала Настя, хотя её уверенность уже начала давать трещину под давлением его ледяного спокойствия.
– Гений, – произнес Орлов с убийственной холодностью, – никогда не ставит себя выше музыки. Он ей служит. Вы же, похоже, служите только своему тщеславию. И за это сегодня Ваше соло продолжит играть… Сомова.
Удар был нанесен с хирургической точностью. Лицо Насти побелело от бешенства. Она метнула взгляд на Анну Сомову, которая, казалось, готова была провалиться сквозь землю от ужаса и неожиданности. Потом на Левина – ища поддержки. Но тот лишь пожимал плечами, наслаждаясь зрелищем.
– Вы не смеете! – выкрикнула Романова, её голос сорвался. – Это моё соло! Вы не отдадите его этой…
– Я уже отдал, – прервал её Орлов. – Пока только на сегодняшнюю репетицию. Вы свободны. Подумайте, время у Вас есть. Или в следующем сезоне Ваш пульт будет занят кем-то другим.
– Ну, уж нет! – лицо звезды исказилось от бессильной ярости. Она больше не смотрела ни на кого. Небрежно швырнув скрипку в футляр, и едва не задев смычком соседа, она с треском захлопнула крышку и, высоко подняв голову, пошла прочь со сцены. – Играйте сами свою унылую музыку! – прошипела она, срывая с плеч бархатную накидку.
Гулкий стук её каблуков по паркету отдавался в мертвой тишине зала. Все молча провожали её взглядами.
Наступила тяжелая пауза, неожиданно прервавшаяся резким, оглушительным треском где-то на галерке. На осветительском мостике метнулась чья-то тень. Послышалась сдавленная ругань, и еще один, уже более глухой удар – будто что-то тяжелое и стеклянное покатилось по металлическому настилу. Из темноты высунулось бледное, перепуганное лицо молодого парня в черной рабочей одежде.
– Простите! Прошу прощения! – его голос, срывающийся от волнения, прозвучал нелепо громко в притихшем зале. – Лампа! Простите! Я сейчас всё исправлю! Сию минуту! Прошу прощения!
Это был Николай Дугин, стажер-осветитель. Его глаза были полны ужаса, но не из-за упавшей аппаратуры. А оттого, что он стал причиной еще большего внимания к и так унизительному уходу богини сцены. Он смотрел не на маэстро, не на оркестр – его взгляд был прикован к исчезающим за тяжелой дверью каблукам девушки, которой третий сезон кряду восторгался не только весь культурный Петербург, но и признанные в мире музыкальные критики и ценители.
Орлов, не оборачиваясь, медленно поднял руку, жестом призывая к тишине и прекращая этот инцидент.
– Скорее ставьте лампу на место, молодой человек, – его голос прозвучал устало и безразлично. – Сомова, за первый пульт. Такт сто двенадцатый. С начала.
Пока испуганная девушка, робко прижав к себе инструмент, медленно переходила на место первой скрипки, в царской ложе раздался звук двигающегося кресла. Борис Левин с видом полнейшего превосходства тоже покидал репетицию. Его лицо выражало легкую, пресыщенную скуку, будто всё, только что произошедшее на сцене было дурным спектаклем, на который он напрасно потратил время. Он небрежно поднял руку, давая маэстро знак, что прощается. Тяжелая бархатная портьера за ним медленно затворилась.
Его уход был понятен всем без слов. Он шел туда, куда только что убежала Настя. В её гримерку. Молчаливое исчезновение мецената, этого негласного хозяина положения, нанесло по репетиции последний, окончательный удар.
Орлов стоял неподвижно, сжав руки так, что костяшки его пальцев побелели.
– Сто двенадцатый такт, – его голос прозвучал хрипло, но с прежней железной волей. – Играем.
Музыка после неловкой паузы зазвучала робко и неровно. Смычки дрожали, флейта сбивалась с дыхания, даже медные звучали приглушенно и неуверенно. Каждый следующий аккорд давался с мучительным усилием, и диссонанс был уже не в нотах, а в самой атмосфере.
Орлов резко опустил руки. Звук замер в полутакте, оборвавшись на высокой, неразрешенной ноте.
– Достаточно, – его голос прозвучал устало, но четко, разносясь под сводами зала. – Антракт. Тридцать минут. Приведите себя в порядок. И вспомните, наконец, что вы – оркестр, а не сборище нервных учеников.
Он развернулся и широким, жестким шагом направился в свою дирижерскую. Дверь за ним захлопнулась с таким звуком, что все вздрогнули.
В зале на секунду воцарилась гробовая тишина, а затем его заполнил сдержанный, нервный гул голосов. Музыканты медленно, молча расходились, избегая смотреть друг на друга.
Кто-то поспешил проверить свой мобильный, отвечая на срочные сообщения и звонки; кто-то побежал в артистическую, стараясь успеть перекусить в образовавшуюся паузу; кто-то погрузился в кратковременную медитацию.
Людмила Щербакова, торопливо схватив в гардеробе своё старенькое, кашемировое пальто, поспешила к выходу. Там, под дождём уже стоял Алексей Петров. Безучастный, с пустым взглядом, он словно не чувствовал, как ледяные струи стекают за воротник его элегантного плаща.
– С ума сошел, Лёша? Промокнешь до костей и заболеешь! – крикнула она прямо в ухо виолончелисту, перекрывая шум ливня, и потянула его за собой.
В несколько шагов преодолев узкую арку между зданиями, обогнув служебный грузовик с аппаратурой, они выскочили в крошечный, замкнутый со всех сторон двор-колодец. С неба, затянутого грязновато-серой пеленой, хлестало с удвоенной силой. Они почти прижались друг к другу под узким чугунным козырьком черного хода, укрываясь от потока, льющегося сверху.
Щербакова закурила и протянула Петрову помятую пачку. Он достал оттуда последнюю сигарету и, скомкав пачку, засунул её в карман.
– Закури – отпустит! – со знанием дела сказала она, чиркнув дешевой, пластиковой зажигалкой.
– Нет, Вы видели, Людмила Петровна? – выпалил он, нервно закуривая. – Он же пошёл к ней! – его голос сорвался на сдавленный шепот. Он трясся не от холода, а от бессильной ярости, сжимая сигарету так, что та грозила рассыпаться.
– Успокойся, Алёша. Борис Борисыч всем интересуется. Особенно выгодными проектами. А Настя у него теперь главный актив. – Людмила говорила спокойно, наблюдая за ревнивым любовником.
– Актив? – Петров фыркнул, но в его глазах мелькнула слабая надежда, за которую он так отчаянно хотел зацепиться. – Да он на нее смотрит не как на актив! Он смотрит на нее как на, я не знаю, как на свою собственность! Это не взгляд мецената и бизнесмена! Это взгляд владельца!
– А на что, по-твоему, должен быть похож взгляд бизнесмена? – Людмила сделала неспешную затяжку, выпуская дым в сырую мглу двора. – На график окупаемости? Он вкладывает не в наш оркестр! Он вкладывает в неё. И не только деньги, но и своё время, связи. Конечно, он к ней привязан. По-деловому. По-отечески.
– По-отечески? – Алексей горько рассмеялся, и смех его был страшен. – У него отеческой нежности хватит, чтобы скупить пол-Петербурга и не дрогнуть!
– Успокойся, Лёш, – Щербакова посмотрела на его мокрое, искаженное страданием лицо. – Ты – её отдушина. Её настоящая любовь. А все остальное – просто бизнес. Сцена. Театр.
Он молчал, сжав кулаки, жадно хватая её слова как спасительный глоток воздуха. Глупый, вспыльчивый, слепо влюбленный мальчик, готовый поверить в любую сказку, лишь бы не видеть правды. Ему так отчаянно хотелось верить, что его избранница чиста, а могущественный покровитель – всего лишь добрый, щедрый дядя.
Людмила же, прожженная сплетница, видевшая всё и вся, прекрасно понимала истинную природу отношений Насти и Левина. Но зачем разрушать иллюзии этого дурачка? Спокойный, обманутый любовник – куда меньше проблем для всех, чем любовник отвергнутый и мстительный. Ей даже где-то было жалко этого мальчишку. Скромный и трудолюбивый, несколько лет назад пришедший в оркестр после консерватории, он почти сразу стал концертмейстером группы виолончелистов, обойдя в конкурсе даже опытного Михаила Вадимовича. Который, между прочим, пришёл на работу в оркестр одновременно с Щербаковой.
– Ладно, коченею, – она бросила окурок в лужу, где тот с шипением погас. – Иди, приведи себя в порядок. И поменьше эмоций на сцене. А то маэстро и тебя на замену отправит, – она фыркнула, – и твою виолончель тоже. И гори тогда алым пламенем твоя концертмейстерская доплата. Итак, небось последние деньги тратишь на капризы своей принцессы?
Словно вдруг вспомнив о чём-то важном, Петров проверил карманы своего плаща, и, убедившись, что всё на месте, тоже затушил сигарету. Через ту же узенькую, пропахшую сыростью арку они прошмыгнули обратно, к парадному входу.
В гардеробной Петров скинул с себя промокший плащ. Из внутреннего кармана он достал небольшую, бархатистую коробочку и на мгновение застыл, сжимая её в ладони так крепко, будто это была не вещь, а его последняя надежда.
Щербакова, снимая свое пальто, заметила этот жест. Её цепкий, всевидящий взгляд скользнул по его рукам, по тому, как он почти инстинктивно прикрыл коробочку другой рукой.
– О, – тихо выдохнула она, и в голосе её внезапно появились ноты неподдельного, почти материнского участия. – Какая изящная вещица! Для неё, да?
– Да, для неё! – с трудом выдавил он.
– Дарú и ни о чем не думай, – Людмила повесила пальто на крючок и поправила прическу у мутного зеркала. – Лучшие друзья девушек – это бриллианты!
Петров ничего не ответил. Он лишь судорожно сглотнул, спрятал коробочку во внутренний карман пиджака и, отвернувшись, стал вешать плащ на вешалку. Его спина, прямая и напряженная, говорила красноречивее любых слов – он не хотел, чтобы кто-то ещё видел его сокровенное. Это было его тайное оружие, его козырь в борьбе за внимание Насти, которую он не собирался проигрывать.
– Встретимся через пять минут в зале, – сказал он, наконец, направляясь в сторону артистических комнат и гримерок.
– Смотри, не опоздай, романтик! – крикнула ему вслед Щербакова. – Маэстро ждать не будет!
С новообретенной, хрупкой уверенностью, юноша зашагал по длинному коридору. Его рука непроизвольно прижималась к внутреннему карману пиджака, где лежала заветная бархатная коробочка.
Гримерка Насти располагалась на третьем этаже в самом отдаленном крыле здания, где обычно стояла такая тишина, что было слышно ход часов, висящих этажом ниже. Рядом располагалась чёрная лестница, ведущая к тому самому выходу, у которого Петров совсем недавно курил с Щербаковой. Лестницей пользовались лишь в случаях крайней необходимости, сохраняя тишину и покой рядом с гримерной звезды.
Петров шел по бесконечному, пустынному порталу коридора, и его бросало то в жар, то в холод. При мысли о лежащем в кармане подарке начинали потеть ладони. Но потом внезапный холодный сквозняк из-под одной из множества дверей на этаже обдавал спину ледяной испариной и заставлял содрогаться от мороза.
Он был абсолютно не готов к этому разговору. Слова, которые он репетировал в уме, теперь казались плоскими, глупыми и детскими. Что он мог предложить ей? Свою любовь? Свою преданность? Имела ли цену эта валюта в её новом, блестящем мире, где правили цифры контрактов и аплодисменты зала.
Но другого способа привязать к себе строптивую, ускользающую звезду он больше не видел. Это была его последняя, отчаянная ставка. Кольцо, купленное на все сбережения в самом известном ювелирном доме на Невском, должно было сделать своё дело. Ещё никто не устоял от этих украшений, даже особы королевских кровей.
Вот показалась и её дверь. Глухая, темного дерева, с лаконичной табличкой «Анастасия Романова». Петров сделал ещё несколько шагов, готовый постучатся, но пальцы застыли в нескольких сантиметрах от двери. Из-за тяжелой деревянной створки донёсся ровный, низкий, стальной голос. Голос, в котором не было ни крика, ни ярости – только холодная, неоспоримая власть.
– Твое поведение сегодня дурно и неприемлемо! – говорил Левин. – Ты поставила под удар не только свою репутацию. Ты поставила под удар инвестиции. Мои инвестиции.
Голос Насти прозвучал слабо:
– Но он унизил меня при всех!
– Он – дирижёр! Он отвечает за дисциплину и порядок в вашем коллективе. Ему нужно безусловное подчинение и послушание, – голос Левина перебил её, словно отсекая ненужную и пустую болтовню. – А мне нужен красивый результат. Ты – часть этого результата. Если ты из-за своих истерик перестанешь приносить прибыль, тебя заменят.
Наступила тишина. Такая, что Петрову показалось, будто он слышит, как замирает кровь в его собственных жилах.
– Все твои сольные партии, – продолжил Левин все тем же ровным, деловым тоном, – все гастроли, рекламные контракты – это не подарки. Это аванс. Который ты должна отработать идеальными выступлениями.
– Я… я не хотела… – всхлипывала Настя, её голос слабо дрожал.
– Хотеть – это не твоя функция. Твоя функция – играть. Так, как я решил. Так, как требует Орлов. У меня нет интереса содержать капризного ребенка. В этом городе есть дюжина скрипачек, готовых занять твое место за половину твоего гонорара и без твоих истерик. Я купил тебя не для истерик. Я купил тебя для побед. Ты же победительница, девочка?
Ответа не последовало.
– Отлично, – заключил Левин, и Петров услышал, как передвигается стул. – У меня больше нет времени на это обсуждение. Надеюсь на следующей репетиции ты снова будешь занимать место первой скрипки, – шаги приблизились к двери. – На подоконнике подарок. Хочу видеть его на тебе на следующем концерте.
Петров отшатнулся от двери, будто его ударили. В ушах звенело от этих спокойных, размалывающих душу слов. Его рука сама разжалась, выпуская бархатную коробочку обратно в карман. В его голове вдруг с грохотом встали на свои места все пазлы. Вспышка за вспышкой перед глазами пронеслись те самые украшения, что он видел на Насте. Изящные серьги-подвески, массивное, но утонченное кольцо с темным камнем, которое она так любила рассматривать во время пауз, тонкая диадема, в которой она сияла на последнем гала-концерте и многие другие. Смеясь, она всегда говорила ему, что это дешевая бижутерия с маркетплейсов. Хорошие, искусно сделанные подделки. И он верил. Верил её легкому, прозрачному взгляду. Верил, что её роскошь – лишь часть образа, иллюзия, созданная для сцены. А теперь до него с ужасающей, разрушительной ясностью дошло: каждый этот камень был холодным, бездушным расчетом. Каждый «пустяк» – ловкой, издевательской ложью.
Сомнения, которые он гнал от себя все эти месяцы, навалились на него всей своей тяжестью. Её внезапные занятия до поздней ночи. Её дорогие платья. Её новая квартира в престижном районе, которую она удачно «снимала по старой цене». Он был не любовником. Он был ширмой. Глупым, наивным мальчиком на побегушках, которого держали для прикрытия, пока настоящий мужчина решал её настоящую судьбу и одаривал настоящими подарками.
Он с силой сжал в ладони бархатную коробочку, чувствуя, как хрупкий картон ломается. Ему вдруг страшно захотелось выбросить её, швырнуть со всей силы в эту грязную, пропахшую чужими духами и чужими амбициями дверь.
Но он не сделал этого. Он просто разжал пальцы, развернулся и почти побежал прочь по коридору, спасаясь от этого голоса, в котором не было ни капли человеческого, и от этой внезапно открывшейся правды.
На повороте на лестницу он едва не столкнулся с шедшей навстречу Анной Сомовой. Он успел инстинктивно отшатнуться. Она шла быстрыми, нервными шажками, держа перед собой капхолдер с двумя стаканчиками горячего кофе, её лицо было бледным и озабоченным.
– Ой, Лёша! Прости! – выдохнула она, едва не расплескав кипяток.
Петров схватился за перила, чтобы не упасть. Его дыхание было тяжелым, прерывистым.
– Ты к Насте? – хрипло выдохнул он, кивнув в сторону длинного коридора.
Анна кивнула, поправляя очки, и стараясь не смотреть ему в глаза.
– Да. Я подумала, что ей может быть плохо. После всего, что произошло. Может, кофе поможет.
– Не ходи, – его голос прозвучал резко, почти грубо. Он все еще не мог совладать с собой. – Ей сейчас явно не до тебя.
Анна вздрогнула, будто он ударил её. Её и без того растерянное лицо стало совсем испуганным.
– Она никогда тебе не простит сегодняшнего! Ты же подсидела её самым наглым образом!
– Я не.. – голос Сомовой задрожал ещё больше, – я не подсиживала её, Лёша! Маэстро сам решил! Я хочу помочь ей.
– Помочь? – Петров горько усмехнулся, и в его смехе слышалась вся накопленная горечь. – Там ей уже помогли. Основательно. Поверь, она не оценит ни твоего кофе, ни сочувствия. Лучше иди отсюда.
Он не стал объяснять подробностей. Сжав кулаки, он резко развернулся и побежал вниз по лестнице, оставив Анну одну в полумраке коридора.
Она постояла несколько секунд в полной растерянности, глядя то на удаляющуюся спину Петрова, то на остывающий кофе в своих руках, то в сторону гримерки Насти. Сделав глубокий вдох и поправив выбившийся из пучка непослушный волос, она все же решительно направилась дальше по коридору, на цыпочках подбираясь к заветной двери. Она все еще наивно верила, что её скромная забота сможет хоть каплю утешить звезду, в чьей тени она была так счастлива существовать.
Затаив дыхание, она приблизилась к темной деревянной двери. Сначала она слышала лишь собственное сердцебиение. Потом – приглушенный, влажный звук поцелуя. Затем – низкий, одобрительный мужской смех и ответный, игривый смешок Насти, который в это мгновение показался Анне чужим и неестественным. Потом из-за двери послышался мягкий характерный скрип мебели и сдавленное дыхание, сбивающееся в один ритм, чей-то стон – не от боли, скорее от удовольствия. Ритмичный, настойчивый скрип то ускорялся, то становился медленнее, почти прекращаясь.
Анна отпрянула от двери, будто её ударило током. Щёки мгновенно вспыхнули густым румянцем, по спине пробежала ледяная дрожь. Она вдруг с болезненной, обжигающей ясностью поняла, что стала невольным свидетелем интимного свидания подруги.
Её пальцы разжались, и стаканы с кофе с глухим стуком упали на пол, обдав её ноги темно-коричневыми брызгами. Она даже не заметила этого. Она смотрела на дверь широко раскрытыми глазами, в которых читался не просто шок, а глубокая, детская обида и предательство. Все её наивные представления о дружбе, о поддержке, рассыпались в прах перед этой грубой правдой. Её подруга не нуждалась в её утешении. Ей было не до слез. Совсем не до них.
Развернувшись, Анна бросилась прочь по коридору, давясь рыданиями, которые не смела издать громко. Она бежала, не разбирая дороги, стараясь лишь уйти подальше от этого места, от этого скрипучего звука, врезавшегося ей в память.
Время перерыва подходило к концу. Зал постепенно наполнялся гулом: музыканты возвращались на свои места, листали свои партии, вполголоса переговаривались, настраивали инструменты. Их взгляды то и дело скользили к пустому пульту первой скрипки, словно ожидая, что Романова вот-вот вернется с триумфальной радостью в глазах.
Дверь в зал с силой распахнулась, и на пороге появилась Анна Сомова. Она стояла, слегка пошатываясь, делая судорожный вдох, будто пробежала марафон. Её глаза были красными и влажными, а кончик носа – воспаленно-алым. На неё устремились взгляды всего оркестра. Шепот стих. Звук настраиваемого альта оборвался на высокой ноте.
Анна, словно сквозь строй, медленно прошествовала в центр сцены. Она приблизилась к пультам первых скрипок, к первому из них, самому ближнему к дирижеру, к тому самому, который совсем недавно покинула её подруга.
Словно приговоренная, она медленно опустилась на почётное место первой скрипки, которое сейчас казалось скорее электрическим стулом. Яркий свет софита, всегда ловивший в свой круг блистательную Настю, упал на её ссутуленную спину и растрепанные из под наспех скрученной гульки волосы. Она казалась при этом свете еще меньше, еще незаметнее, еще более испуганной.
Она не поднимала глаз, уставившись в ноты, которые плясали перед ней расплывчатыми пятнами. Её пальцы, привычные и уверенные на грифе, сейчас беспомощно дрожали, не в силах даже поднять скрипку на плечо.
Анна Сомова сидела под ярким, безжалостным светом, и ей хотелось только одного – провалиться сквозь землю. Она получила то, о чем тайно мечтала все эти годы. И теперь это желанное место первой скрипки жгло её огнем стыда и унижения.
Она выдохнула с облегчением, когда дверь зала распахнулась, и на пороге появился маэстро Орлов. Все внимание оркестра переключилось на него. Он вошел с тем же ледяным, незыблемым спокойствием, с каким и уходил. Его лицо было каменной маской, не выдававшей ни единой эмоции.
Вслед за ним, буквально в двух шагах, шел Игорь Яминский. И на его обычно сдержанном лице играла торжествующая улыбка. Он не просто шел – он парил, его плечи были расправлены, а взгляд, скользнувший по оркестру, говорил красноречивее любых слов: «Порядок восстановлен! Я здесь снова второй после бога».
Его душа ликовала. Наконец-то эту выскочку Романову поставили на место. Месяцы унижений и ярости позади. Даже в его коронных произведениях, в его соло, где рояль должен был царить безраздельно, она умудрялась вставить свои дерзкие, виртуозные пассажи, перетягивая на себя внимание зала томными взглядами и вызывающими движениями. Она отбирала у него воздух, свет, победу. А теперь её место заняла тихая, послушная Сомова, которая не смела бы и пикнуть без его одобрения. Пусть на одну репетицию. Пока.
Яминский с наслаждением опустился на банкетку перед роялем, проведя пальцами по клавишам в немом, властном приветствии. Теперь всё было так, как должно быть. Его власть над музыкой и оркестром была восстановлена. Он снова был незаменим.
Маэстро Орлов, поднявшись на подиум, взглянул на оркестр. Все на своих местах. Щербакова, несмотря на абсолютную тишину, умудряется что-то шептать сидящей рядом подруге. Самый юный музыкант оркестра – тромбонист Фёдор Гершвин нервно облизывает губы и растирает руками щеки. Виолончелист Петров взволновано дышит, теребя внутренний карман пиджака. На ближнем пульте первых скрипок взгляд Орлова задержался на испуганной фигуре Сомовой, не выдавая ни единой эмоции. Оркестр – это большая семья. У каждого свой характер. Своя история. Свои победы. Страхи. И всех объединяет стремление к гармонии. И к общему результату.
Орлов ещё раз оглядел свою «семью» перед началом работы. Все были готовы.
– Такт сто сорок второй, – объявил он спокойным, тихим голосом. – Готовы?
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе