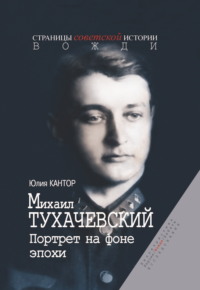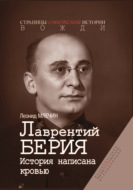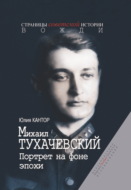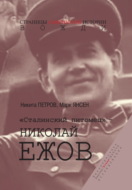Читать книгу: «Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи», страница 2
Свидетельство.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Смоленский Окружный Суд, в силу состоявшегося 23 августа 1896 года определения и на основании представленных в Окружный Суд документов, выдал сие свидетельство Потомственному дворянину Михаилу Николаевичу Тухачевскому… что он родился 3 февраля тысяча восемьсот девяносто третьего года, родители его: Потомственный дворянин Николай Николаевич Тухачевский и законная жена его Мавра Петровна, вероисповедания оба православного, первобрачные… 3 марта 1912 года22.
С 1 сентября 1912 года он был зачислен в списки А
лександровского военного училища юнкером 2-й роты. Учитывая, что в кадетском корпусе Тухачевский проучился всего год, наибольшее формирующее личность воздействие на него оказало, конечно, пребывание в училище. Александровское военное училище, считавшееся вторым после Павловского и третьим после Пажеского корпуса по престижности, имело репутацию либерального по духу образования. Что вполне устраивало отца будущего маршала и, скорее всего, наиболее соответствовало характеру самого Михаила. Но вероятнее, что выбор именно Александровского училища для получения военного образования обусловили не духовно-нравственные предпочтения, а ограниченные финансовые средства семьи. Обучение Тухачевского в Москве стоило меньше, чем в любом военном училище Петербурга, – не нужно было снимать квартиру (здесь жила вся семья), искать место, где столоваться, да и сама жизнь в Москве обходилась дешевле, нежели в столице. Однако для военной карьеры обучение в этом училище, несомненно, создавало гораздо больше сложностей, особенно для выпуска в гвардию. Гвардейских вакансий для Александровского училища имелось очень мало.

Аттестат М.Н. Тухачевского об окончании 7-го класса Первого Московского кадетского корпуса. 1912. [РГВИА]
В.Н. Посторонкин, выпускник московского Алексеевского военного училища был знаком с Тухачевским, так как подготовка по стрельбе, лагерно-полевые и тактическо-маневренные учения в Александровском и Алексеевском училищах проходили совместно. Посторонкин эмигрировал из России, категорически не приняв Октябрьский переворот, и написал воспоминания о товарище юности по заказу Пражского архива. В это время Тухачевский – один из самых успешных «красных генералов» и, соответственно, один из самых ненавидимых белоэмигрантской средой выходцев из царского офицерского корпуса. Несмотря на субъективность, этот документ представляет несомненный интерес, так как является одним из немногих свидетельств начала карьеры Тухачевского.

Свидетельство Смоленского дворянского депутатского собрания о причислении М.Н. Тухачевского к дворянскому роду Тухачевских. [РГВИА]
«Отличаясь большими способностями, призванием к военному делу, рвением к несению службы, он очень скоро выделяется из среды прочих юнкеров. 19-летний юноша… быстро вживается в обстановку жизни юнкера тогдашнего времени. Дисциплинированный и преданный требованиям службы, Тухачевский был скоро замечен своим начальством, но, к сожалению, не пользуется любовью своих товарищей, чему виной является он сам, сторонится сослуживцев и ни с кем не сближается, ограничиваясь лишь служебными, чисто официальными отношениями. Сразу, с первых же шагов Тухачевский занимает положение, которое изобличает его страстное стремление быть фельдфебелем роты или старшим портупей-юнкером»23.
Александровское училище в конце XIX века славилось и великолепной военной библиотекой. Бывший воспитанник училища В.А. Березовский, крупнейший книгоиздатель, подарил ей все свои издания, числом более 3 тысяч24. Среди военных книг, проштудированных Тухачевским-юнкером, значилось более полусотни названий, в том числе работы известных русских военных историков и теоретиков А.К. Байова, А.Г. Елчанинова, В.П. Михневича и других25.
Наиболее интересные занятия проходили летом. Лагерь училища располагался на Ходынском поле. Здесь проводились тактические учения, стрельбы и топографические съемки. Для ознакомления юнкеров младшего класса со строями, походными порядками и боевыми действиями составлялась рота военного времени из юнкеров старшего класса, и все преподаватели тактики объясняли своим группам суть занятий. В октябре училище выходило на Воробьевы горы, где отряд из пехоты, кавалерии и артиллерии производил боевую стрельбу.
Как любое другое учебное заведение с устоявшимися и престижными традициями, Александровское военное училище формировало определенный стереотип поведения. «Александровы», как и «павлоны», как и «николаевцы», имели свое лицо, свой облик, свои традиции26. «Александроны» считались отражением «пореформенного либерализма» в армии и гвардии. Они сами по себе были некоторой «фрондой» в офицерском корпусе гвардии27. Как вспоминал генерал А.И. Спиридович, «Александровское училище в Москве – не строгое, даже распущенное, офицеры не подтягивают, смотрят на многое сквозь пальцы, учиться не трудно, устраиваются хорошие балы»28.
Тухачевский учился с явным удовольствием: учеба для него – больше, чем получение образования, она способ самореализации, самоутверждения. В.М. Студецкий вспоминал, как контрастировало отношение Тухачевского к занятиям в училище с отношением к гимназическим урокам: «“Ты, Миша, в гимназии тройки хватал, откуда у тебя такая прыть отлично учиться сейчас?” Он отвечал: “Там были не науки, а одна мука, а здесь есть что поучить. У меня любовь к военному делу от предков”. В 17 веке был пензенским воеводой Тухачевский, прадед его»29. Строевую службу, всю специальную подготовку он воспринимал с максимальной добросовестностью, возведенной едва ли не в абсолют.
«На одном из тактических учений юнкер младшего курса Тухачевский проявляет себя как отличный служака, понявший смысл службы и требования долга, – писал Посторонний. – Будучи назначенным часовым в сторожевое охранение, он по какому-то недоразумению не был своевременно сменен и, забытый, остался на своем посту. Он простоял на посту сверх срока более часа и не пожелал смениться по приказанию, переданному ему посланным юнкером.
Он был сменен самим ротным командиром, который поставил его на пост сторожевого охранения 2-й роты. На все это потребовалось еще некоторое время. О Тухачевском сразу заговорили, ставили в пример его понимание обязанностей по службе и внутреннее понимание им духа уставов, на которых зиждилась эта самая служба. Его выдвинули производством в портупей-юнкера без должности, в то время как прочие еще не могли и мечтать о портупей-юнкерских нашивках.
Великолепный строевик, стрелок и инструктор, Тухачевский тянулся к “карьере”, он с течением времени становился слепо преданным службе, фанатиком в достижении одной цели, поставленной им себе как руководящий принцип, достигнуть максимума служебной карьеры, хотя бы для этого принципа пришлось рискнуть, поставить максимум-ставку»30. В оценке Посторонкина сквозит то ли ревность, то ли зависть.
При переходе в старший класс Тухачевскому достался приз за первоклассное решение экзаменационной тактической задачи. За глазомерное определение расстояний и успешную стрельбу он получил благодарность по училищу. Будучи великолепным гимнастом и прекрасным фехтовальщиком, стал обладателем первого приза на турнире училища весной 1913 года – сабли только что вводимого в войсках образца для ношения по желанию вне строя31.
В дни Романовских торжеств, когда Александровскому и Алексеевскому военным училищам приходилось ввиду приезда императора с семьей в Москву нести ответственную и тяжелую караульную службу в Кремлевском дворце, портупей-юнкер Тухачевский отменно, добросовестно и с отличием исполнял караульные обязанности, возложенные на него32. Тогда же он впервые был представлен его величеству, обратившему внимание на его выправку и особенно на действительно редкий для младшего юнкера случай получения портупей-юнкерского звания. Император выразил свое удовольствие, ознакомившись с кратким докладом ротного командира о служебной деятельности портупей-юнкера Тухачевского.
Между тем отец Тухачевского, окончательно перестав сводить концы с концами, обратился к императору с прошением принять детей на обучение за казенный счет – как потомков героя войны 1812 года. Вот черновик этого документа:
Ваше Императорское Величество!
Родной дед мой, Александр Николаевич Тухачевский, участвовал в Отечественной войне 1812 года… и во всех последующих войнах 1813, 1814, 1828, 1829, 1830 и 1831. В эту последнюю кампанию он был в сражении убит.
В минувшем 1812 году Ваше Величество даровали потомкам участников Отечественной войны много милостей, превеличайшая есть воспитание и образование их детей на казенный счет. Я не решился тогда же ходатайствовать для своих детей об этой милости… надеясь справиться с трудною задачей собственными средствами окончить образование девяти детей своих. Но теперь на это ушли уже мои последние средства, а заработать что-либо личным трудом я не могу по причине болезненного состояния.
В этой крайности мне остается одна надежда на безпредельное милосердие Ваше, Государь, один исход – обращение к милости Вашего Императорского Величества с ходатайством о принятии на казенный счет в один из московских институтов дочерей моих Софии и Ольги и в московскую консерваторию сыновей моих Александра и Игоря в память заслуг их прадеда Александра Николаевича Тухачевского.
О такой Монаршей милости я решаюсь просить за них в надежде, что голос мой, голос отца семейства истинно нуждающегося, будет услышан и мы будем утешены в эти дни общей радости нашей, верноподданных Вашего Императорского Величества, встречающих Вас в столице, где 300 лет тому назад наши предки торжествовали вступление на престол Вашего Предка, Государь, первого Царя из Дома Романовых.
Вашего Императорского Величества верноподданный дворянин Николай Николаевич Тухачевский33.
Подтверждением действительно бедственного положения семьи Тухачевских, вынудившего ее главу пойти на столь унизительный шаг, как подобное прошение, служит еще один документ. Это «Свидетельство», выданное смоленским губернским предводителем дворянства отцу будущего маршала 20 июня 1913 года: «Дано потомственному дворянину Николаю Николаевичу Тухачевскому в том, что он состояния крайне бедного, обременен семейством, состоящим из 9 человек детей, жены, матери, и никаких имуществ, как движимых так и недвижимых, или других средств существования не имеет»34.
Тем неприятнее было Тухачевским получить отказ:
Ответ на прошение о принятии детей на казенный счет, отправленное в Канцелярию Его Императорского Величества
Дворянину Николаю Тухачевскому
Прошение Ваше, поступившее 27 мая с. г. как поданное по истечение срока, установленного в… правилах35, оставлено без последствий.
Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений. 11 ноября 1913 года36.
В напряженной учебе прошли два года. 12 июля 1914 года Михаил Тухачевский стал офицером. Из перворазрядных юнкеров, получивших по знанию военной службы не менее 11 баллов, а по общеобразовательным предметам не менее 9, отличнейшим оказался Тухачевский. На этом основании он был произведен в подпоручики гвардейской пехоты, что давало возможность поступить в гвардию. Выпуск состоялся в лагере, в лесу между Ходынским полем и Покровским-Стрешневом.
Тухачевский любил вспоминать выпускной бал Александровского училища. Было много рукопожатий и поцелуев. На торжественном вечере веселились до утра. Замечательный танцор, Тухачевский красиво исполнял и грустный вальс, и лихую мазурку. Он еще не знал, что этим вечером кончается только что начавшаяся юность. Получивший 300 рублей на экипировку гвардии подпоручик Михаил Тухачевский назначался в столичный гарнизон – в лейб-гвардии Семеновский полк, один из двух старейших и привилегированных полков Российской империи, основанных еще Петром.
Предки Тухачевского начали служить в лейб-гвардии Семеновском полку с первого его набора, с конца XVII века. Служили они в полку и в начале XIX века, в его составе принимали участие в Отечественной войне 1812 года. С 1811 по 1820 год в нем служил, как уже упоминалось, прадед маршала, Александр Николаевич Тухачевский. Он был «коренным» семеновцем. Начав службу в 1811 году с подпрапорщиков, к 1812 году произведен в прапорщики. В 1813 году стал подпоручиком; в 1815 году – поручиком; в 1817 году – штабс-капитаном; в 1820 году – капитаном и командиром роты. После так называемого семеновского дела – бунта полка в 1820 году – его перевели подполковником в Галицкий пехотный полк. С 1817 года в лейб-гвардии Семеновском полку служил и родной брат прадеда маршала – Николай Николаевич Тухачевский. Он начал службу в лейб-гвардии Кавалергардском полку, а в 1817 году был переведен подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский37.
Поступая в гвардию, Михаил Тухачевский рассчитывал продолжить ускоренную гвардейской службой карьеру в Академии Генерального штаба. Для удачной военной карьеры попасть в гвардию было очень важно: «Гвардия давала положение в свете. Там были лучшие перспективы. Главное же, в гвардию принимали людей с разбором и исключительно дворян. Гвардейский офицер считался воспитанным человеком в светском смысле слова. В армии же такой гарантии не могло быть… в гвардейских полках тоже был известный шик, но уже более утонченный и благородный»38.
В число его близких приятелей в полку входили подпоручик П.А. Купреянов, подпоручик Н.Н. Толстой и его брат подпоручик И.Н. Толстой, прапорщик барон А.А. Типольт, подпоручик Б.В. Энгельгардт, подпоручик Д.В. Комаров. Достаточно близкие приятельские отношения сложились у Михаила со штабс-капитаном Р.В. Бржозовским (в 1917 г. ставшим командиром Семеновского полка) и штабс-капитаном С.И. Соллогубом. Тухачевского, Толстого, Бржозовского и Соллогуба изначально сблизило и то, что все они были выпускниками Александровского училища. (Бржозовский стал последним, кто провожал Тухачевского из революционного Петрограда в Москву – в новую жизнь. С остальными своими приятелями по полку он после Первой мировой встретился в Гражданскую, с некоторыми из них продолжил контакты и в 1920-е годы, сохранив юношескую привязанность.)
Второй старейший полк гвардейской пехоты, Семеновский, формально считался равноценным Преображенскому, однако по составу офицеров, по их родовитости, по их связям при дворе все-таки уступал своему «полку-близнецу». Но поступление М. Тухачевского как первого по баллам выпускника-алексан-дровца в лейб-гвардии Семеновский полк не могло быть обеспечено лишь уровнем успеваемости. Вновь направленные в гвардейские полки выпускники военных училищ проходили еще фильтрацию через офицерские собрания самих полков, где весьма требовательно относились к происхождению, социальным характеристикам кандидата и его ближайшего окружения. Претенденту надлежало также обладать безупречными политическими взглядами, мировоззрением, ничем в этом отношении не запятнанной репутацией. Важную роль (порой даже решающую) играла принадлежность кандидата к старой «полковой фамилии». В этом отношении выходец из «семеновской фамилии» М. Тухачевский оказался в полку «своим». Теперь честолюбие и тщеславие его должно было быть удовлетворено. Перед ним открылась перспективная военная карьера.
Глава 2
Фронт и плен: Революция как предчувствие
Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь.
Л. Дербенев
Первая мировая война принесла в историческую антропологию понятие «потерянное поколение». Небывалая жестокость «ненужной войны» корежила психику даже победителей. Со сдержанной горечью, очень по-мужски, рассказал об этом писатель, чью молодость также перечеркнула война, – Эрих-Мария Ремарк. «Фронт представляется мне зловещим водоворотом, – размышляет его герой. – Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в свою воронку, медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое сопротивление»1. Фронт – национальное унижение – паралич морали. Эта рожденная войной социологическая парадигма деформировала поколение тогдашних 20-летних, лишив нравственного иммунитета и тем самым обусловив неизбежность революционных катаклизмов…
Война усугубила назревшие в российской армии противоречия и проблемы. Вошедшая в социально-политический кризис Россия, хоть и располагала достаточно большой армией, имевшей крепкие традиции, оказалась не в состоянии «планировать ход войны». В первые месяцы боевой дух держался на сублимированном национальном чувстве. Характеризуя народные настроения в 1914 году, граф Н.Н. Головин писал: «Первым стимулом, толкавшим все слои населения России на бранный подвиг, являлось сознание, что Германия сама напала на нас… Угроза Германии разбудила в народе социальный инстинкт самосохранения»2. И солдаты, и офицерство переживали высочайший патриотический подъем: накануне августа 1914 года 96 % подлежащих призыву явились на мобилизационные приемные комиссии3. Увы, уже полгода спустя апатия и разочарование, усугублявшиеся очевидной невнятностью политических причин затягивавшейся бойни, практически полностью заглушили чувство патриотизма. Предложить армии что-либо духоподъемное правительству, терзаемому интригами и властебоязнью, оказалось сложнее, чем снабдить окопы необходимым оружием.
Коалиционная стратегия Антанты была выстроена таким образом, что Россия в самые острые периоды войны играла ключевую роль в поражении Германского блока. Это предопределило результаты Первой мировой войны к 1917 году. Выпавшие на долю русской армии испытания требовали от ее личного состава, прежде всего от солдат и младших офицеров, находившихся в гуще боевых действий, в окопах, не только верности долгу и присяге, но и безупречной спаянности и дисциплины. Правительство рассчитывало компенсировать выносливостью и вымуштрованностью солдат русской армии недостаточное материально-техническое оснащение войск, уравновесить силы, противопоставив экономически более развитому противнику людскую массу. Это почти демонстративное нежелание тратиться на вооружение армии, варварское отношение к человеческой жизни стало на многие десятилетия «метой» боевого армейского строительства России.
«Огромные жертвы, плохое снабжение вооружением, неудачи на фронте, особенно в ходе кампании 1915 года, серьезно отразились на моральном состоянии армии и всей страны, вызвав политический кризис. Как на фронте, так и в тылу у многих закрадывалось сомнение в конечном успехе в войне. Брожение докатилось до глубокого тыла»4.
В кампании 1914–1915 годов большая часть кадрового офицерства была либо убита, либо выведена из непосредственного участия в боевых действиях – ранениями или пленом. К весне 1915 года кадрового офицерского состава осталось в пехоте от V до 2/5 от общего числа. К осени того же года в пехотных полках уже не более 20 % кадрового офицерского состава5. В летнюю кампанию 1914 года и зимнюю кампанию 1914–1915 годов на 10 убитых и раненых приходилось 6–7 попавших в плен6.
Восполнить страшную убыль должны были прапорщики запаса и офицеры производства военного времени. С 1914 по 1917 год пришлось призвать более 300 000 некадровых офицеров – лиц, получивших гражданское образование и сдавших экзамен на офицерский чин. Они и стали командовать ротами и батальонами… За годы войны из солдат в прапорщики произведено более 20 000 человек. Изменение социального состава нового офицерства не могло не сказаться и на психологическом состоянии армии. «Из тысячи прапорщиков, прибывших зимой 1915–1916 годов на доукомплектование 7-й армии Юго-Западного фронта, 700 происходили из крестьян, 260 – из купцов, мещан и рабочих и только 40 – из дворян»7.
Верховное командование, рассчитывая на ведение кратковременной войны, не берегло ни офицерские, ни унтер-офицерские кадры, вливая их в ряды действующих частей. На этом, в частности, акцентировал внимание генерал А.И. Деникин: «С течением времени, неся огромные потери и меняя 10–12 раз свой состав, войсковые части, по преимуществу пехотные, превращались в какие-то этапы, через которые текла непрерывная человеческая струя, задерживаясь ненадолго и не успевая приобщиться духовно к военным традициям части»8.
Усугубляющим фактором стало отсутствие в среде новоиспеченных офицеров «полкового братства». У офицерства предвоенного времени ощущение «полковой семьи» культивировалось в кадетских корпусах, затем в училищах и, наконец, в собственно армейской или гвардейской среде. Появление в таком социуме вчерашних солдат было деморализующим даже не столько из-за сословных предрассудков как таковых, сколько из-за резких ментальных нестыковок. Говорить о внутреннем единстве армии уже не приходилось.
Кроме того, «в ходе Первой мировой войны русский офицерский корпус очень сильно изменил свое лицо, по сравнению с довоенным временем, и далеко не был уже той сплоченной силой, которая обеспечивала внутреннюю и внешнюю безопасность страны на протяжении столетий. Поэтому далеко не все его представители приняли участие в борьбе за российскую государственность против Коммунистического интернационала в годы Гражданской войны, предпочтя по соображениям личного порядка отречься от своего прошлого и профессии и остаться в стороне от нее, а многие (пусть в большинстве и по принуждению) даже сражались на стороне разрушителей России против своих недавних сослуживцев»9.
Все более осложнявшаяся внутриармейская ситуация вынудила 28 членов Государственной Думы и Государственного совета, входивших в состав «Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства», подать Николаю II «Всеподданнейшую записку».
В этом документе указывалось, что «принцип бережливости людской жизни не был в должной мере воспринят нашей армией и не был в ней достаточно осуществлен»: «Многие офицеры не берегли себя; не берегли их, а вместе с тем и армию и высшие начальники. В армиях прочно привился иной взгляд, а именно, что при слабости наших технических сил мы должны пробивать себе путь преимущественно ценою человеческой крови. В результате в то время, как у наших союзников размеры ежемесячных потерь их армий постепенно и неуклонно сокращаются, уменьшившись во Франции по сравнению с начальными месяцами войны почти вдвое, у нас они остаются неизменными и даже имеют склонность к увеличению»10.
Для изменения ситуации, считали авторы «Записки», нужно разъяснить всем высокопоставленным военачальникам, что безответственное, неоправданное расходование людских жизней недопустимо. Этот призыв симптоматичен вдвойне: иллюстрируя отсутствие внимания к «человеческому материалу» у руководства военного ведомства и Генштаба, он демонстрировал бессилие даже облеченных государственной властью гражданских чиновников, их неспособность воздействовать на происходящее на фронтах.
Члены Особого совещания по обороне в качестве рецепта сохранения боеспособности армии видели «бережливое расходование человеческого материала в боях при терпеливом ожидании дальнейшего увеличения наших технических средств для нанесения врагу окончательного удара»11.
«Записка» членов Особого совещания, полученная в Ставке и доведенная до сведения командующих фронтами, вызвала у последних саркастическое негодование. Выразителем общей точки зрения стал генерал А.А. Брусилов12. Он писал: «Наименее понятным считаю пункт, в котором выражено пожелание бережливого расходования человеческого материала
в боях при терпеливом ожидании дальнейшего увеличения наших технических средств для нанесения врагу окончательного удара. Устроить наступление без потерь можно только на маневрах: зря никаких предприятий и теперь не делается, и противник несет столь же тяжелые потери, как и мы… Что касается до технических средств, то мы пользуемся теми, которые у нас есть: чем их более, тем более гарантирован успех; но, чтобы разгромить врага или отбиться от него, неминуемо потери будут, притом – значительные»13.
Вторил Брусилову главнокомандующий армиями Северного фронта генерал Рузский, указавший в своем ответе, что война требует жертв и любой нажим в этом вопросе на военачальников может привести к снижению инициативности. Более того, Рузский, не будучи уверенным, «что с продолжением войны мы превзойдем своих противников в техническом отношении», считал сбережение людских ресурсов в таких условиях крайне невыгодным. В таком контексте предложение «заменить энергию, заключающуюся в человеческой крови, силою свинца, стали и взрывчатых веществ» выглядело даже наивным.
В войне 1914–1917 годов российское войско одержало несколько больших побед – выиграв Галицийскую битву, осуществив Брусиловское наступление и взяв Эрзерум. Выдержав множество тяжких сражений, оно, увы, потерпело судьбоносное поражение в Восточной Пруссии и потеряло в 1915 году Польшу и Галицию. С этого перелома начался окончательный крах царской армии, уже неостановимый, достигший пика к 1917 году (об этом – в главе 3).
Тухачевский принимал участие в первом наступлении армий Брусилова и Рузского в Галиции, наступательных операциях русских войск в Польше в тот период войны, когда она носила маневренный, наступательный характер, когда боевой дух войск был максимально высоким. Он провел в окопах Первой мировой семь месяцев, ставших для него хоть и коротким, но насыщенным и успешным боевым опытом. Увиденное в эти месяцы явилось для наблюдательного, получившего прекрасную теоретическую подготовку молодого офицера примером катастрофической «недееспособности» армейского руководства в новых условиях. Всегда подчеркнуто критически относившийся к Николаю II и его генералам, самоуверенно рассуждавший о реорганизации армии, юный Тухачевский смог теперь не из учебного класса и не с парадного плаца, а из окопа наблюдать за ситуацией, анализируя происходящее на уровне микро- и макросоциума. Топчась в слякоти польских полей и перелесков, ночуя под мокрым снегом Ивангорода, можно согревать себя мыслями о грядущих свершениях, выстраивать боевые операции, которые в совсем недалеком будущем, конечно же, станут реальностью. Но, обладая живым умом и кругозором, даже будучи всего лишь подпоручиком, выпущенным на поле боя прямо из училища, нельзя не видеть иррациональности происходящего. Тухачевский, разумеется, не мог знать о переписке гражданских и военных властей насчет «сбережения человеческого материала», не имел общефронтовых сводок, но из своего окопа он видел красноречивую военную повседневность. Он в этом отношении являлся, как сказали бы в советское время, «типичным представителем» либерального молодого офицерства, начавшего анализировать кризис и приходившего ко все большему разочарованию. Впрочем, личная судьба подпоручика складывалась более чем удачно. «Стык» двух реальностей – внешней, социальной, и внутренней, личной, – усиливал в его мировоззрении двойственность, столь удивлявшую окружающих. Он сделал выбор, и судьба пока оставалась на стороне этого выбора.
Эти бои на Юго-Западном фронте и стали боевым крещением выпускника московского Александровского военного училища, только что произведенного в подпоручики Михаила Тухачевского. Блестяще окончивший училище Тухачевский так и не успел приобщиться к светской офицерской жизни. «Выпуск был произведен на три недели раньше нормального ввиду объявления мобилизации, а именно 12 июля 1914 г. Был произведен в офицеры и вышел в Семеновский полк, с которым сразу же и выступил на войну», – упоминал Тухачевский в автобиографической «Записке о жизни»14.
Перед отправкой на фронт он заехал домой. Сохранилось лирическое воспоминание об этом прощании: «Михаил Николаевич держал себя непринужденно, утешал мать, даже острил и все поглядывал вдоль перрона, точно кого-то ждал. Поцеловав в последний раз мать, Тухачевский встал на подножку и смотрел куда-то вдаль. Поезд уже тронулся, когда со стороны вокзала появилась девушка. Михаил прыгнул на платформу, обнял девушку, поцеловал ей руку и, догнав поезд, на ходу вскочил на подножку»15.


«Записка о жизни» М.Н. Тухачевского. 27 сентября 1921. [ЦАФСБРФ]
Боевые действия начались для подпоручика роты Семеновского полка Тухачевского в августе 1914 года. С 19 августа по 3 сентября полк принимал участие в Люблинской операции. Тухачевский проявил явное и вполне объяснимое стремление выделиться – стать первым. Юношеская безоглядная смелость, амбициозность, замеченная еще в училище, сочетались с холодным умом и умением на практике применять совсем недавно полученные теоретические знания. Несомненно, куража добавляло и ощущение ответственности перед предками – потомственными «семеновцами», дедом и прадедом. В течение семи месяцев пребывания на фронте Тухачевский получил пять боевых наград. Судя по архивным материалам, ордена Тухачевский получал в среднем раз в три недели.
Впервые Тухачевский проявил себя при взятии Семеновским полком города Кржешова. Так, князь Ф.Н. Касаткин-Ростовский, служивший капитаном в Семеновском полку, вспоминал: «Второй батальон, в 6-й роте которого находился Тухачевский, сделав большой обход, неожиданно появился с правого фланга австрийцев, ведущих с остальными нашими батальонами фронтальный бой. И принудил их поспешно отступить. Обход был сделан так глубоко и незаметно, что австрийцы растерялись и так поспешно отошли на другой берег реки Сан, что не успели взорвать приготовленный к взрыву деревянный высоководный мост через реку. По этому горящему мосту, преследуя убегающего неприятеля, вбежала на другой берег 6-я рота со своим ротным командиром капитаном Веселаго и Тухачевским. Мост затушили, перерезали провода, подошли другие роты, переправа была закреплена, причем были взяты трофеи и пленные»16. Горящий мост, успешная атака – настоящее «боевое крещение», вдохновляюще красивый фронтовой дебют.
Подробно описал этот бой и другой однополчанин подпоручика Тухачевского – полковник Зайцов, русский военный историк-эмигрант: «Взять в лоб Кржешовский тет-де-пон, однако, несмотря на потери и доблестное фронтальное наступление наших батальонов, было нам не по силам. Слава Кржешовского боя, разделенная всеми его участниками, все же в особенности принадлежит нашему 2-му батальону, командир которого полковник Вешняков решил, по собственному почину, обойти Кржешовский тет-де-пон и атаковать его с юго-востока, прорываясь вдоль Сана к переправе. Командир 6-й роты капитан Веселаго, во главе своей роты, бросился на горящий мост и, перейдя по нему р. Сан, овладел переправой. Кржешов пал, и Семеновцы перешли через р. Сан, захватывая пленных, пулеметы и трофеи. Смелый почин нашего 2-го батальона и удар 6-й роты дали нам Кржешовский тет-де-пон и сломили фронт сопротивления австрийцев по Сану»17. Результатом этой красивой тактической операции стало отступление 1-й австрийской армии к Кракову и далее в западную Галицию за реку Дунаец.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+23
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе