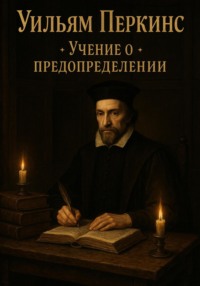Читать книгу: «Учение о предопределении», страница 2
Человек, живущий в этой раздвоенности, невольно переносит ее на Самого Бога. Непостоянство восприятия превращается в представление о непостоянстве Божественного расположения. Меняющееся состояние души преломляется в иллюзию меняющегося отношения Всевышнего. Мгновенный духовный опыт отождествляется с вечной реальностью. И вот уже не человек колеблется в своих чувствах к Богу, но Сам Бог представляется колеблющимся в Своих чувствах к человеку.
Духовная жизнь в таком состоянии превращается в изнурительную погоню за неуловимым. Сегодня душа на гребне волны благодати – и она устремляется ввысь, упоенная сладостным чувством Божьего благоволения. Завтра она в пучине искушения – и опускается на дно отчаяния, сраженная ужасом предполагаемого отвержения. Эти бесконечные колебания истощают силы, расшатывают веру, искажают образ Бога до неузнаваемости.
В таком восприятии нет места для подлинного покоя, для того мира, который превосходит всякое разумение. Ибо покой души не может утвердиться на зыбучем песке изменчивых чувств, но только на непоколебимой скале неизменной Божественной любви. Мир не может расцвести там, где образ Бога меняется с каждым дуновением душевного ветра.
Трагичность такого положения усугубляется тем, что эта нестабильность образа Бога становится самоподдерживающимся кругом мучений. Колеблющееся представление о Божественном отношении рождает страх, страх препятствует истинной любви, отсутствие любви мешает познанию Бога, а неполное познание вновь искажает представление о Нем. Душа, как щепка в водовороте, кружится в этом замкнутом цикле, не находя выхода, не видя берега.
В учении о предопределении открывается образ Бога, ошеломляющий своей красотой и нежностью. Не грозный Судия в чертогах неприступного света, не безжалостный Палач, жаждущий крови грешников, но страстный Жених, взыскавший невесту прежде основания мира. Он не выжидает, готовый уловить нас в преступлении, но предвечно избирает, приуготовляет брачный чертог, изливает благоухание благодати.
Смотрите, какой переворот в сознании производит это откровение! Если Бог – Судия, то каждое мгновение жизни становится испытанием, каждое искушение – проверкой, каждое падение – обвинительным приговором. Но если Он – Жених, то жизнь превращается в путь к брачному пиру, искушения – в препятствия, отдаляющие встречу, а падения – в раны, требующие не казни, но исцеления.
Преображение образа начинается в самих глубинах души, где рабский страх уступает место сыновней любви. Раб трепещет от взгляда господина; сын летит в объятия отца; невеста же стремится к жениху всем существом, влекомая не долгом, но желанием. В этом таинственном переходе от рабства к невестничеству и раскрывается подлинная сила предопределения.
Писание изобилует этим образом – Бог как Жених, неустанно взыскующий Свою невесту. «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис. 62:5). «И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии» (Ос. 2:19). «Ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою» (2 Кор. 11:2). И наконец, великое завершение истории спасения: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:2).
Предопределение утверждает, что это отношение не случайное, не временное, не зависящее от превратностей времени, но предвечное, укорененное в самой сущности Бога. Жених избрал Невесту не за красоту, не за достоинство, не за верность, но единственно по Своей суверенной любви. И это избрание – не просто выбор, но творческий акт, в котором Он Сам создает в Невесте то, что желает в ней видеть.
«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:12). Какое слово! Дарованное, а не заслуженное; принятое, а не достигнутое; подаренное, а не купленное. Таково отношение Жениха к Невесте – не торговля, но дар; не контракт, но завет; не сделка, но жертва. И именно учение о предопределении раскрывает эту истину во всей ее славе, показывая, что инициатива исходит целиком от Него, что любовь предшествует послушанию, что избрание предваряет веру.
Душа, освобожденная от превратного образа Бога как Судии, готового при малейшем проступке лишить благодати, входит в новое измерение отношений с Создателем. Здесь открывается та «совершенная любовь», которая «изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Здесь обретается тот покой, который превыше всякого разумения. Здесь расцветает та радость, которую никто не может отнять.
Божество эмоциональных качелей – порождение немощного человеческого разумения, горький плод неутвержденной веры. В этом искаженном зеркале вечный Бог представляется существом изменчивым, как море при переменчивом ветре. Сегодня Он благоволит, завтра гневается, послезавтра милует – и нет постоянства в Его расположении, нет твердости в Его намерениях. Такое божество подобно капризному монарху, чьи настроения могут изменить судьбу целого королевства между утренним пробуждением и вечерним сном.
Господь предопределения же восстает как неприступная скала среди бушующего моря времени – неизменный, непоколебимый, верный от века и до века. В Нем «нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17) – не потому, что Он бесчувствен, но потому, что совершенен. Не человеческие эмоции правят Им, но вечная любовь, запечатленная в предвечном избрании. Он не меняет Своего отношения к избранным при каждом их падении, ибо «всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11:32).
Непостоянство божества эмоциональных качелей отражается в душе верующего, как луна в потревоженном озере, дробится на тысячи осколков, разрывая сознание на противоречивые фрагменты. Такая душа не знает покоя: в полноте духовного чувства она возносится к небесам мнимой праведности, в оскудении же низвергается в бездну воображаемого отвержения. Она постоянно ищет знамений благоволения – в утешительных чувствах, в успешном служении, в избегании искушений, – но никогда не находит твердой опоры для уверенности.
Бог предопределения, напротив, дарует душе незыблемый фундамент – не в переменчивых чувствах или преходящих достижениях, но в вечном совете, в котором «избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф. 1:4). Этот камень не подвержен эрозии времени, не колеблется при бурях искушений, не рушится под тяжестью падений. Верующий утверждается не на волнах своего духовного состояния, но на гранитном основании Божественного избрания, совершенного, когда не существовало ни времени, ни пространства, ни самого творения.
Трагедия поклонения божеству эмоциональных качелей заключается в том, что оно лишает душу всякой возможности подлинной близости с Богом. Ибо как возможна близость с тем, чье расположение непредсказуемо? Как достижима любовь к тому, чье отношение нестабильно? Как познаваем тот, кто предстает в вечно меняющихся обличьях? Такое почитание неизбежно вырождается либо в рабский страх, либо в формальный ритуализм, либо в безрассудное легкомыслие.
Поклонение же Богу предопределения открывает врата к глубочайшему единению. Душа, утвержденная в истине о неизменной любви Всевышнего, запечатленной в предвечном избрании, обретает дерзновение приближаться к престолу благодати не как случайный проситель, но как возлюбленная дочь, чье имя начертано на ладони Отца. В этой непоколебимой уверенности рождается та любовь, которая «изгоняет страх» (1 Ин. 4:18), то доверие, которое не иссякает даже в пустыне искушений.
Божество эмоциональных качелей требует неустанных усилий по умилостивлению – бесконечных молитв, обрядов, добрых дел, духовных подвигов. Как жертвы, приносимые капризным языческим богам, эти усилия никогда не бывают достаточны, ибо нет гарантии, что они будут приняты, нет уверенности, что они достигнут цели. Такая духовность превращается в изнурительную гонку, где финишная лента вечно отодвигается на несколько шагов.
Бог предопределения же не требует умилостивления, ибо жертва уже принесена, цена уже уплачена, примирение уже совершено. «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10) – примирение, которое не зависит от наших чувств или дел, но утверждено в вечности силой Креста. Такое понимание освобождает от изнурительной гонки за недостижимым совершенством и открывает путь к служению от полноты уже обретенного спасения.
В конечном счете божество эмоциональных качелей – это идол, сотворенный человеческими страхами и надеждами, проекция неустойчивого земного разума на небесный экран. Бог же предопределения – это живой Господь Священного Писания, Который «от начала возвещает, что будет в конце» (Ис. 46:10), Чьи определения неизменны, Чьи обетования нерушимы, Чья любовь непреложна. И именно в познании этого Бога обретается тот мир, который «превыше всякого ума» (Фил. 4:7), та радость, которую «никто не отнимет» (Ин. 16:22), та любовь, которая «никогда не перестает» (1 Кор. 13:8).
В безмолвных глубинах вечности, где сходятся воедино все Божьи атрибуты, строгость и милость предстают не как противоборствующие силы, но как две стороны единой величественной монеты. Здесь правосудие не противится милосердию, но совершается через него; здесь милость не отменяет закон, но исполняет его. В этом непостижимом единстве раскрывается полнота Божественной природы – не разорванной на противоречивые фрагменты, но совершенной в гармоничной целостности.
Предопределение позволяет узреть эту целостность во всей ее славе. Оно срывает пелену с очей веры и открывает мир, где обличающий грех и прощающий его Бог – не два разных божества, но один Святой, Чья святость требует возмездия и Сама же становится этим возмездием. В Голгофской драме милость и правда встречаются, правосудие и мир целуются, как воспевает псалмопевец. И эта встреча – не случайность истории, но венец предвечного замысла.
Падший разум стремится разделить то, что Бог соединил. Он рисует Отца как сурового Судию, Сына – как милосердного Заступника, словно в Троице происходит некий божественный конфликт, словно Спаситель защищает нас от гнева Отца, а не является воплощением Его любви. Но предопределение разрушает эту ложную дихотомию. Оно показывает, что Сам Отец «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного», что искупление – дело не только Сына, но всей Троицы, что крест – не компромисс между противоборствующими атрибутами, но их совершенное воплощение.
Тайна предопределения заключена в том, что Бог не просто знал о Голгофе прежде творения мира, но определил ее как средоточие всех времен и эпох. Вся история творения устремляется к этой центральной точке, где строгость и милость, правосудие и благодать, святость и любовь пребывают в нерасторжимом единстве. И только в свете этой тайны душа начинает постигать целостность Божественного образа.
Грозные слова пророков и благодатные обетования евангелистов ткут единое полотно откровения, где нет ни единой сшивки, ни единого разрыва. Бог, истребивший Содом огнем и серой, и Бог, приглашающий грешников на брачный пир, не две противоречивые сущности, но одно Существо, в природе Которого святость и любовь нераздельны, как свет и тепло в солнечном луче. И именно учение о предопределении позволяет удержать этот парадокс, не впадая ни в крайность представления о жестоком деспоте, ни в иллюзию о добродушном старике, закрывающем глаза на грех.
В трепете перед этой тайной душа обретает ту полноту познания, которая невозможна при любой иной перспективе. Она уже не колеблется от страха к самонадеянности, от отчаяния к легкомыслию, но пребывает в благоговейном созерцании Бога таким, каков Он есть, – Святым в Своей любви и Любящим в Своей святости, Судией, Который Сам берет на Себя Свой приговор, Искупителем, Который искал нас прежде, чем мы начали искать Его.
Освобождение от страха как суть новой жизни во Христе
Страх – первородное чувство падшего естества, первый плод вкушения запретного плода. Не скорбь, не стыд, не гнев, но именно страх стал первым движением души, отпавшей от Бога. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога» (Быт. 3:8). То, что прежде было источником блаженства, – присутствие Создателя – превратилось в причину ужаса. Так в самом основании ветхого человека был заложен этот извращенный корень – боязнь Того, Кто есть Сама Любовь.
Страх пронизывает все существо ветхого человека, подобно тому как соль пронизывает морскую воду. Он становится не просто одним из многих переживаний, но фундаментальным способом бытия в мире. Каждая мысль, каждое решение, каждое действие совершается под его невидимым, но неумолимым давлением. Человек строит Вавилонские башни, возводит стены Иерихона, кует мечи и щиты – все в тщетной попытке защитить себя от древнего ужаса богооставленности, от перворанения отпадения.
Трагедия ветхого человека в том, что, бегущий от Бога в страхе осуждения, он неизбежно приходит к тому, от чего бежит. Стремясь избежать наказания, он создает свои системы самооправдания, которые приводят лишь к большему рабству. Желая спастись от смерти, он строит цивилизации, умножающие смерть. Пытаясь найти безопасность, он творит оружие, повергающее мир в хаос. Так страх становится самоисполняющимся пророчеством, замыкая человека в порочном круге саморазрушения.
«Бесы веруют и трепещут» (Иак. 2:19) – это поразительное свидетельство о природе демонической веры. Она не преображает, не освобождает, не приводит к любви, но только усиливает трепет. Ибо вера без уверенности предопределения есть лишь интеллектуальное признание факта существования Бога, которое не меняет фундаментального отчуждения между творением и Творцом. Она знает о Боге, но не знает Его; признает Его силу, но не принимает Его любви.
В этом же состоянии демонической «веры» пребывает и ветхий человек, полагающий, что его спасение зависит от его собственных деяний, от колеблющегося маятника его духовных успехов и неудач. Он подобен Каину, приносящему дары в страхе, а не в любви, стремящемуся заслужить то, что может быть только даровано, пытающемуся купить то, что предлагается даром. И чем усерднее его труды, тем глубже разверзается пропасть отчаяния, когда он в очередной раз обнаруживает собственное несовершенство.
Страх осуждения порождает либо отчаяние, либо фарисейство – два лика одной и той же сущности ветхого человека. Отчаяние говорит: «Я никогда не смогу достичь праведности» – и опускает руки. Фарисейство утверждает: «Я уже достиг праведности» – и останавливается на достигнутом. Но и то и другое – лишь различные симптомы одной и той же болезни: неспособности принять благодать как незаслуженный дар, как излияние любви, предшествующей всякому человеческому деянию.
Апостольское слово «бесы веруют и трепещут» проливает поразительный свет на состояние души, лишенной якоря предопределения. Вера демонов не есть ложь или заблуждение – она абсолютно точна в своем познании. Они не сомневаются в существовании Бога, не оспаривают Его всемогущества, не отрицают Его святости. И все же эта вера не приносит им ни спасения, ни радости, ни мира, но только бесконечный трепет.
Так и христианин, не утвержденный в своем предвечном избрании, обнаруживает себя в странном и мучительном положении: он признает Евангелие истинным, исповедует Христа Господом, участвует в таинствах, подвизается в молитве – и все же трепещет перед лицом Того, Кого называет Отцом. Его вера, лишенная уверенности, превращается в демоническую карикатуру – она знает о Боге, но не знает Его в той интимности, которая изгоняет страх.
Демоны веруют в изгнание, но не в усыновление; в осуждение, но не в оправдание; в свою погибель, но не в свое спасение. Неутвержденный христианин парадоксальным образом разделяет их ущербную эсхатологию: исповедуя устами полное прощение во Христе, он в глубине сердца продолжает ожидать окончательного отвержения. Внешне поклоняясь Богу благодати, внутренне он служит богу возмездия. Этот трагический раскол сознания превращает весь его религиозный опыт в мучительное притворство.
Без откровения о предопределении верующий неизбежно скатывается к этому противоестественному состоянию, где форма евангельской веры наполняется демоническим содержанием трепета. Ибо если спасение может быть потеряно, если благодать может иссякнуть, если Божья любовь может отвратиться – то какая принципиальная разница между положением христианина и положением демона? Оба висят над бездной, один – еще не упавший, другой – уже низверженный; один – временно помилованный, другой – навеки осужденный; но для обоих последнее слово принадлежит не любви, а гневу.
Какое извращение благой вести! Какое затемнение сияния славы Божией в лице Иисуса Христа! Вместо Евангелия как провозглашения уже совершенного спасения, вместо радостной уверенности неутвержденный христианин принимает евангелие условности, евангелие «может быть», евангелие, которое не устраняет демонический трепет, а лишь отсрочивает его.
Этот ужас перед последним судом, это ожидание, что Бог может в конечном итоге отвергнуть тех, кого призвал, это недоверие к непоколебимости Божьих обетований – все это признаки не смирения, а неверия; не благочестия, а маловерия; не почтения, а непонимания самой сути Евангелия. Истинное благочестие не в страхе отвержения, но в благоговейном изумлении перед непостижимой любовью, избравшей нас прежде создания мира.
Дух усыновления против духа рабства
Два духа, две реальности, два царства сталкиваются в глубинах человеческого сердца. Дух рабства, вечно припадающий к земле, и дух усыновления, возводящий взор к небесам. Один сковывает цепями страха, другой расправляет крылья свободы. Один нашептывает: «Бойся Господина», другой восклицает: «Авва, Отче!»
Предопределение разрушает этот дух рабства, как восходящее солнце разгоняет ночные кошмары. Оно провозглашает, что еще до основания мира, прежде всякого человеческого падения, прежде первого вздоха первого младенца, Бог определил верующих к усыновлению. Не к временному помилованию, не к условному принятию, не к испытательному сроку – но к полноте прав и привилегий сынов и дочерей в вечном доме Отца.
«Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: Авва, Отче!» (Рим. 8:15). Это восклицание апостола разрывает оковы вековых страхов и предрассудков. «Авва» – слово бесконечной интимности, которое ребенок произносит прежде всякой богословской премудрости. Так не обращаются к деспоту, трепеща за свою судьбу; так не взывают к безразличному судье, ожидая приговора. Так приникают к Отцу, в чьей любви не сомневаются даже в самый темный час.
Рабство и усыновление различаются в самом корне мотивации. Раб повинуется из страха наказания или в надежде на награду. Сын же послушен из любви и благодарности, зная, что его положение не зависит от его успехов или неудач. Поэтому парадоксальным образом именно безусловное избрание, предшествующее всякой человеческой заслуге, становится источником подлинного послушания – не вынужденного, но свободного, не торгующегося, но благодарного.
В этом свете меняется вся парадигма духовной жизни. Уже не тщетные попытки заработать благоволение, но благодарное принятие уже дарованной благодати. Не изматывающий бег к неопределенной цели, но радостное раскрытие того, что уже заложено в предвечном избрании. Не судорожное цепляние за шаткую веревку спасения, но покой на нерушимой скале Божественного определения.
Как семя, заключенное в твердую оболочку, не может пробиться к свету, пока не будет разрушена сдерживающая скорлупа, так и дух усыновления не может воссиять в полноте, пока не разрушатся стены рабского страха. Предопределение становится тем священным молотом, который разбивает эти стены, освобождая душу для подлинного переживания сыновства.
В сердцевине предвечного избрания сокрыта тайна, преображающая все основания духовного бытия. Не человек избирает Бога, но Бог избирает человека; не творение ищет Творца, но Творец взыскует творение. Это радикальное переворачивание естественной логики разрушает самый корень рабского духа. Ибо раб вечно озабочен своими действиями, своим соответствием ожиданиям господина, своими успехами и неудачами. Сын же покоится в неизменной любви Отца, предшествующей всякому человеческому деянию.
«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8:16). Заметьте: не наши дела, не наши чувства, не наши достижения, но Сам Дух. И это свидетельство проистекает не из зыбкой человеческой верности, но из твердого камня Божественного избрания. Предопределение утверждает объективную реальность усыновления, которая не зависит от субъективных переживаний. Подобно тому как сын остается сыном даже в моменты непослушания или отчуждения, так и верующий сохраняет свое положение дитя Божьего даже в периоды духовной сухости и падений.
Как горное эхо повторяет звук трубы, так и сердце верующего отвечает на Божественное избрание восклицанием: «Авва, Отче!» Этот возглас не выбирается сознательно, не произносится с расчетом, не формулируется богословской рефлексией. Он вырывается из глубин преображенного духа, как пар поднимается от нагретой воды. Предопределение разжигает тот священный огонь, который превращает холодные воды рационального признания Бога в пар живого, непосредственного переживания сыновства.
Парадоксально, но именно учение о суверенном избрании, которое критики называют холодным и безличным, рождает самые теплые и личные отношения с Богом. Ибо что может быть более личным, чем быть избранным по имени прежде создания мира? Что может быть более интимным, чем быть записанным в книгу жизни Агнца до полагания основания вселенной? Что может быть более обнадеживающим, чем знать, что финал истории спасения утвержден в вечности и не подвержен превратностям временных обстоятельств?
В тени Голгофского креста дух усыновления достигает своей полноты. Здесь Сын по природе умирает, чтобы сыны по благодати могли жить. Здесь вечное избрание обретает свое историческое воплощение, свою плоть и кровь. Предопределение и крест – не два разных учения, но один неразделимый акт Божественной любви. В избрании Бог намечает цель, на кресте Он прокладывает путь, в усыновлении Он приводит избранных к славной участи сынов и дочерей вечного Царя.
Дух усыновления, высвобожденный через откровение о предопределении, преображает всю духовную жизнь. Молитва из тяжкой обязанности превращается в радостную встречу с Отцом. Послушание из средства заслужить благоволение становится благодарным ответом на уже дарованную любовь. Служение из способа доказать свою верность преображается в выражение сыновней признательности. И даже скорби, даже падения, даже временные отступления – все обретает новое значение в свете непреложного усыновления. Ибо «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Предопределение и парадоксальное раскрытие свободы
Извечный вопрос встает перед разумом, дерзающим проникнуть в тайны Божественного замысла: как согласуются предопределение и человеческая свобода? Кажется, что эти два понятия сталкиваются в непримиримом противоборстве, как два могучих потока, встречающихся в бурлящем водовороте. Суверенное избрание Творца и свободный выбор творения – разве могут они сосуществовать не поглощая друг друга?
Человеческий разум, скованный цепями времени и ограниченный пределами пространства, требует выбора между двумя крайностями. Либо Бог всевластно определяет все события, и тогда человек становится безвольной марионеткой в космической драме, где каждое его движение предначертано извне. Либо человек обладает подлинной свободой, и тогда Божественное всемогущество отступает перед автономией твари, словно океан перед песчаным берегом. Третьего не дано – так провозглашает падший разум.
В этом противопоставлении – ложная дилемма, порожденная не Божественным откровением, но человеческим непониманием. Писание не знает такого антагонизма, не ставит перед выбором между Божьей суверенностью и человеческой ответственностью. Оно с удивительной простотой соединяет эти истины, не видя в их сосуществовании никакого противоречия. В библейском повествовании грех Иосифовых братьев и Божественный промысл о спасении Израиля не исключают, но дополняют друг друга. Отвержение Христа иудейскими властями и предвечный план искупления не противоречат, но вместе образуют единую ткань истории спасения.
Откровение о предопределении не устраняет человеческой свободы, но помещает ее в иной контекст, освобождает от искажений падшего мышления. Подобно тому как великий композитор не уничтожает индивидуальности инструментов, но вписывает их в гармонию симфонии, так и Божественное избрание не отменяет уникальности человеческой личности, но включает ее в величественный замысел вселенского искупления.
Кажущееся противоречие между предопределением и свободой возникает из ограниченности человеческого восприятия. Как глаз не может одновременно зафиксировать все точки на окружности, но должен перемещаться от одной к другой, так и разум не способен охватить одним взглядом полноту Божественной истины. Он видит то предопределение, то свободу, но не может созерцать их в том совершенном единстве, в котором они пребывают в небесных сферах.
Подлинная свобода расцветает не в бесплодных песках человеческой автономии, но в плодородной долине Божественного избрания. Она обретается не в иллюзорной независимости от высшей воли, но в радостном согласии с ней. Как река, нашедшая свое русло, обретает силу и стремительность, так и человеческая свобода достигает своей полноты, когда входит в предначертанный ей путь.
Вечность предшествует времени не только хронологически, но и онтологически. В безмолвных глубинах предвечного совета уже начертан тот узор, который лишь постепенно проявляется на полотне истории. Человеческая свобода не творит этот узор, но воплощает его, не изобретает, но обнаруживает, не созидает из ничего, но выявляет уже сущее в Божественном замысле.
Пагубное заблуждение падшего разума – видеть в свободе способность противостоять предвечному избранию, словно тварь может что-то добавить к совершенству Творца или что-то отнять от полноты Его определений. Подлинная свобода не в противлении, но в совпадении; не в противостоянии, но в согласовании; не в отрицании, но в утверждении того, что уже запечатлено в Книге Жизни Агнца.
В верховьях священной реки откровения, где Божественные тайны еще не разделены человеческими категориями, предопределение и свобода предстают как единая истина. Там нет двух потоков, но один, берущий начало в непостижимой глубине Троицы и изливающийся в историю двумя руслами, которые человеческий разум воспринимает как отдельные реки. Но в истоке они едины, как едины воля Отца и послушание Сына в предвечном замысле искупления.
Предопределение не уничтожает свободу, но преображает ее – из бесцельного блуждания в осмысленное движение, из хаотичного метания в целенаправленное восхождение. Оно освобождает от тирании случайности, от рабства неопределенности, от ужаса перед бездной бесконечных возможностей. Человек, просвещенный светом предвечного избрания, не мечется в поисках себя, но находит себя в Том, Кто избрал его прежде создания мира.
Освобождение от бремени «самоспасения»
Самоспасение – иллюзия, столь же древняя, как Вавилонская башня, и столь же тщетная, как попытка зачерпнуть море решетом. Это тяжкое бремя, возложенное человеком на собственные плечи после изгнания из Эдема, неподъемный груз, изнуряющий душу на бесконечных дорогах религиозного самосовершенствования. От языческих жертвоприношений до изощренных практик современной духовности – везде виден все тот же трагический жест: простертые к небу руки, пытающиеся достичь того, что может быть только даровано свыше.
Предопределение разрывает этот замкнутый круг тщетных усилий одним могучим движением благодати. Оно провозглашает радикальную истину: спасение не достигается, но принимается; не зарабатывается, но даруется; не создается человеческими усилиями, но открывается в предвечном Божьем замысле. Как утренняя заря не производится усилием воли бодрствующего, но просто встречается им в положенный час, так и спасение не создается подвигами ищущего, но обретается им как уже совершенная реальность.
Какое освобождение приносит это откровение! Лестница добрых дел, по которой душа тщетно пыталась взобраться на небеса, оказывается ненужной, ибо Сам Бог уже спустился к нам и пребывает с нами. Весы моральных достижений, на которых человек взвешивал свои шансы на спасение, оказываются бесполезными, ибо приговор оправдания уже вынесен в вечности и утвержден на Голгофе. Томительное ожидание окончательного приговора прекращается, ибо «нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Рим. 8:1).
Бремя самоспасения проявляется в тысяче обличий, но его корень один: неверие в полноту и достаточность Божьего дара. Правоверный иудей, тщательно соблюдающий закон; аскет, изнуряющий плоть постами и бдениями; филантроп, умножающий добрые дела; мистик, погруженный в созерцание, – все они, при всем внешнем различии, могут разделять одно и то же фундаментальное заблуждение: веру в то, что спасение достигается, а не принимается как дар.
Учение о предопределении разрушает эту иллюзию, как луч света рассеивает тьму. Оно показывает, что источник спасения не в человеческом выборе, но в Божественном избрании; не в моральном совершенстве, но в незаслуженной милости; не в религиозных усилиях, но в предвечной любви Того, Кто «избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф. 1:4). В свете этого откровения бремя самоспасения спадает с плеч, как тяжкая ноша, оставленная у подножия креста.
Душа, утвержденная в истине предопределения, обретает невиданную свободу. Она освобождается от судорожного цепляния за собственные заслуги, от мучительного сравнения себя с другими, от изнурительного бега за ускользающим идеалом совершенства. Она входит в тот «покой, который остается народу Божьему» (Евр. 4:9) – не в бездействие, но в иное качество деятельности, проистекающей не из страха осуждения, но из благодарности за уже дарованное спасение.
В самой сердцевине человеческой трагедии лежит не столько грех, сколько неустанное стремление стать кем-то иным – более достойным, более праведным, более совершенным. Это гонка за призраками, погоня за горизонтом, который бесконечно отодвигается с каждым шагом приближения. Из скорлупы такого «становления» никогда не вылупится подлинное бытие, как из семени чертополоха не произрастет виноградная лоза.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе