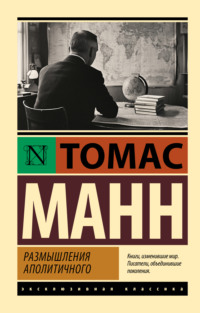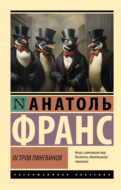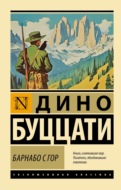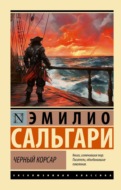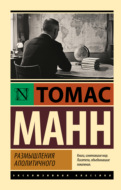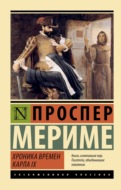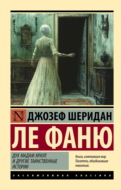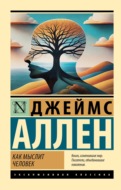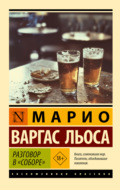Читать книгу: «Размышления аполитичного», страница 4
Так рисуется положение дел в умудрённой голове литератора цивилизации. Его сочувствие врагам протестующей страны есть духовная солидарность. Его любовь и страсть – с войсками западных союзников: Франции, Англии и ещё, пожалуй, Италии; они для него армия духа, с ними шествует цивилизация. За них бьётся его сердце, а за Германию косвенно, лишь в том смысле, что он со всем пылом этого сердца желает ей поражения. Побуждения его, само собой, духовного, то есть благородного свойства. Он желает поражения Германии ради духовного его значения, духовных последствий, какие оно имело бы для Германии и для Европы. Он желает его по «внутренним» причинам, как, скажем, паллиатива революции, коей ведь в Германии ведь так и не случилось: 1848 год провалился, и германское объединение устроилось не в результате демократической революции, а самым худшим, непростительным образом – в результате унижения Франции. Правда, поражение обернулось для Франции огромной удачей, ибо принесло ей Республику, то есть истину и справедливость. Но даже если единственным объяснением тогдашней победы Германии является благосклонность Провидения к Франции (ведь не могла же она при таком насквозь бездуховном и антидуховном, по мнению литератора цивилизации, человеке власти, как Бисмарк, победить духом), так Германию это никоим образом не извиняет. Не знаю, трудно угадать, чего желал бы наш радикальный литератор тогда; сегодня же он желает, чтобы Антанта разбила и обратила Германию; её победа стала бы для Германии и для Европы победой литературы, его личной победой, равно как и её поражение – его личным поражением, настолько дело риторической демократии стало его собственным. Итак, он желает физического унижения Германии, ведь оно включает в себя духовное, желает разгрома – но правильнее сказать по-французски: débâcle «кайзеровской империи», поскольку вследствие этого физического и морального дебакля (впрочем, моральный может и предшествовать физическому) наконец-то, наконец-то будет явлено столь чаемое, осязаемое и катастрофическое доказательство того, что Германия жила не в истине и духе, а во лжи и грубости. Кабы сегодня ещё можно было на то надеяться, он бы всем сердцем желал даже демократического вторжения в Германию, желал бы, чтобы дело кончилось не какой-нибудь Марной-Вальми (всё-таки это была скорее Марна-Колин), а победного марша в сопровождении духового оркестра войск цивилизации в Берлине, – как встретило бы их его сердце! Какие он нашёл бы средства для двусмысленного выражения своего душевного торжества! Увы и ах, этому не бывать. Неблагодарное это занятие – играть роль изрыгающего проклятия пророка в стране, где причины не влекут за собой следствия, в стране половинчатостей, которую в лучшем случае постигнет лишь полукатастрофа, не способная на чисто романную судьбу! Литератору цивилизации не придётся описывать débâcle германской seconde empire, убейте, но нет. Придётся радоваться, если Германия хоть не слишком откровенно победит…
* * *
Прошу мне поверить: если в мои строки закралось нечто вроде насмешки или желчи, то против воли. Вовсе не собираясь насмехаться или злобствовать, я намерен выдержать в данном исследовании научно-популярный, скажем, тон и описать один литературно-политический тип. С означенной целью перехожу к следующему замечанию. Логическое, психологическое отождествление понятий «разгромить» и «обратить», отождествление физического и духовного унижения народа доказывает, что литератор цивилизации, собственно, не противник войны, не обязательно пацифист, что исход военных действий для него вердикт, не подлежащий духовному обжалованию, он видит в войне ultima ratio, даже некий суд Божий. Это несколько странно, но так. Здесь своего рода иррационализм, на деле представляющий собой одухотворённый рационализм и заключающийся в следующем: покуда сохраняется малейшая надежда, что Германия хоть как-то, пусть даже посредством экономического удушения, будет повержена, война – суд Божий. Но не долее! Едва эта надежда истаивает, война сразу же становится несправедливостью и грубым насилием, а результат её лишается духовного смысла. Данное обстоятельство, однако, не может помешать настаивать: «дух» не обязательно пацифист; в доказательство приведу пример Италии, где именно «дух» практически развязал войну, ведь там он представлен развязавшими войну республиканцами, масонами, радикалами и литераторами – не правда ли? – а вовсе не социал-демократами, противниками войны и настоящими пацифистами. Суть в том, что, коли война затевается во благо цивилизации, литератор цивилизации её одобряет. Он следует тут Вольтеру, который, хоть и гнушался войнами Фридриха, цивилизационной войны прямо-таки требовал (против турок, с которыми Фридрих вместо этого чуть не заключил союз). Как же выученику – чтобы не сказать эпигону – революции принципиально осуждать кровопролитие во имя добра, истины, духа? «Решительная любовь к человеку» (выражение литератора цивилизации) не боится крови, в число её орудий помимо литературного слова входит гильотина, как прежде входил бескровный, правда, костёр. Так что, если литератор цивилизации принципиально не против войны, это вовсе не обязательно похотливый эстетизм, как у Габриеле Д’Аннунцио. Его фронда против этой войны, поскольку он видит в ней германскую войну, историческое дело Германии, всплеск германского «протеста»; поскольку война несёт на себе германскую печать, образ действий в ней – германский, а великие свершения – за Германией. Его антивоенная фронда сходит на нет, как только война становится для него войной цивилизации с варварским упорством Германии; и в этом смысле, «туда», он её приветствует. Короче говоря, его фронда не столько против войны, сколько против Германии, и лишь этим можно объяснить разного рода противоречия, в которых на первый взгляд повинен литератор цивилизации и которые без учёта этого многое проясняющего факта производили бы самое диковинное впечатление. Его отношение к войне колеблется между гуманистическим отвращением и величайшим восхищением солдатскими свершениями врага. С одной стороны, он видит в Антанте нечто хрупкое, нежное, драгоценное, благородно-слабое, что, естественно, подвергается огромной опасности брутализации под влиянием варварской Германии. А с другой – питает крайнее презрение к тем соотечественникам, кто недооценил или пока ещё недооценивает военные доблести и мощь Антанты. Литератор цивилизации в восторге от успехов держав цивилизации, он восхищается их военным имуществом, бронёй, бетонными траншеями, флешеттами, бомбами, начинёнными экразитом и отравляющими газами, не задаваясь вопросом, как это уживается с благородной слабостью, и находя всё то же самое в Германии отвратительным. Французская пушка вызывает у него уважение, германская – преступна, омерзительна и сплошной идиотизм. Литератор цивилизации единодушен со всеми министрами и журналистами Антанты и в том, что любая германская победа – лишь следствие и доказательство многолетней коварной подготовки, а любой успех Антанты означает торжество духа над материей. Но в то же время любви его нестерпима мысль, что державы Антанты, а тем более Франция, плохо подготовлены, недостаточно вооружены. Вооружение? У них блестящее вооружение! Ещё раз: логика здесь не вполне прозрачна. Но кто, какой педант будет требовать логики от любви!
Повторяю, мне бы не хотелось выходить за рамки научности и информативности. И тем не менее вчерне набросанный мною тип литератора цивилизации свидетельствует, что я не полностью с ним согласен. Моё отношение к событиям, которое я, конечно же, не «выбирал», отношение сперва вовсе не обдуманное, а простодушно-самоочевидное, всё, что я с самых первых дней о них говорил, его ожесточило, и если уж мне не удалось это раньше, то тут я рассорился с ним навсегда. «С болью и гневом» он, по его словам, отвернулся от меня, причём боль не помешала гневу двусмысленно-полупублично высказать в мой адрес то, что в политическом отношении, наверное, прекрасно, но по-человечески изрядная низость – вероятно, свидетельство того, что даже «политика человечности» всё-таки остаётся политикой и человечности не то чтобы на пользу. Только вот внешнее отчуждение тем печальнее, что вообще-то мы одинаково смотрим – не видим, но смотрим – на войну, по поводу которой и литератор разделяет воззрения Достоевского. Война и для него извечное сопротивление Германии западному (его) духу и попытки Рима (Западного Рима, заключившего союз с Восточным) это сопротивление сломить, то есть интервенционистская война европейской цивилизации против непокорной Германии, ибо когда лондонская «Таймс» в один прекрасный день заявила, что война ведётся союзниками «в интересах внутреннего устройства Германии», это, пожалуй, уже почти то, что нужно понимать под shameless audacity, но говорилось это в унисон с литератором цивилизации, который тоже ведёт войну в европейских интересах внутреннего «устройства» своей страны и который, как и любой француз, несколько приуныв в первые недели войны, после чуда на Марне убеждён в конечной победе. «Германии придётся кое с чем смириться», – говорил он тогда, и глаза его сверкали. Германии придётся наконец стать послушной, говорил он, и она будет счастлива, словно ребёнок, который своими криками требовал порки, а когда его выпороли, благодарен за сломленное упорство, за помощь в преодолении внутренних барьеров, за раскрепощение и освобождение. Громя, ставя на колени Германию, для её же блага переламывая злобное упрямство, мы её, дескать, раскрепощаем и освобождаем, заставляя принять разум и стать почётным членом демократического сообщества государств.
Я уже говорил, мне не так-то просто следить за подобным ходом мысли; теперь я пойду дальше и сознаюсь, что он крайне неприятно меня задевает, как-то лично оскорбляет, приводит в негодование, затрагивает самые основы моей чести, более того, при первом знакомстве подействовал на меня, как яд и опермент. Но откуда? Откуда это возмущение моей последней, глубинной, лично-надличной воли волеизъявлением славного европейца, коему именно его славное европейство внушило желание и веру в разгром собственного отечества, в то, что силы западной цивилизации добьются-таки покладистости его народа? Я никогда не относился к тем, кто почитает лёгкую, триумфальную, под гром ударных и духовых, военную победу Германии над противником вершиной счастья – что европейского, что немецкого, и уже довольно давно дал тому свидетельство. Откуда же чувство, овладевшее каждой клеточкой моего существа в начале войны, что, вовсе не будучи героем, бесстрашно смотрящим в глаза смерти, я буквально не смогу жить, если Запад разгромит, унизит Германию, сломит её веру в себя, так что ей придётся «кое с чем смириться» и принять разум, ratio врага? Но предположим, свершилось, предположим, Антанта одержала блестящую, стремительную победу, мир освободился от немецкого «кошмара», немецкого «протеста», империя цивилизации укомплектовалась полностью и, избавившись от оппозиции, раззадорилась. Выйдет Европа ну немного потешная, немного мелко-гуманная, пошло-подгнившая, женоподобно-элегантная, Европа уже чуть слишком «человечная», чуть вымогательская и хвастливо-демократическая, Европа танго и тустепа, гешефта и похоти à la Edward the Seventh, Европа Монте-Карло, литературная, как парижская кокотка, – но разве она не была бы нашему брату выгоднее, чем «милитаристская»? Разве это не была бы развесёлая, о, да какая ещё развесёлая Европа, нежелание которой свидетельствует по меньшей мере об отсутствии у писателя эгоизма? Ибо невероятно артистично, не правда ли: Европа Антанты, которая спит и видит свой «human peace and freedom», и артист, кому, поскольку он «артист», жилось бы в ней весьма и весьма вольготно; ему это стоит учесть, и ему это стоит зачесть…
* * *
Право, моё возмущение довольно нелепо! Даже для меня самого, а я имею дурную привычку другим преподносить в качестве нелепостей то, что таковым представляется мне. Нелепо, поскольку факт, что всё моё существо относится к существу литератора цивилизации куда с меньшей враждебностью и сопротивлением, чем можно судить по холодно-объективному анализу, который ему от меня достался. Чего он хочет? И если я этого не хочу, то почему? Он вовсе не настолько скверный гражданин и патриот, чтобы не болеть за Германию. Напротив! Он болеет за неё изо всех сил, испытывая сильнейшее чувство ответственности за её судьбу. Он хочет и подталкивает эволюцию, которую и я считаю необходимой, то есть неотвратимой, к которой и я в известной степени невольно причастен по своей природе, но ликовать по данному поводу всё-таки не вижу ни малейших оснований. Кнутом и шпорами литератор подстёгивает прогресс, который и мне – во всяком случае частенько – видится неудержимым, видится самой судьбой; подстёгивать его в меру скромных возможностей есть и моя судьба, и тем не менее по смутным причинам я состою к нему в некоей консервативной оппозиции… Хотелось бы быть понятым вполне. Так вот, можно считать прогресс неотвратимым, самой судьбой и в то же время не испытывать ни малейшего желания галопом мчаться следом с «ура, да здравствует», чего прогрессу, как мне думается, также вовсе не требуется. У прогресса есть всё, что нужно, и прежде всего золотые перья. Кому-то может показаться, что будущее за золотыми перьями, однако в действительности золотые перья за будущим. То, что во имя идеи хорошо пишут, служит метафизическим доказательством её доброкачественности и будущности. Можно и иначе: пока об идее пишут хорошо, она достойна внимания и имеет право на жизнь, даже если это не прогресс… Повторяю: у прогресса есть всё, что нужно. Он только с виду оппозиция. На самом деле в оппозиции очутилась уцелевшая противонаправленная воля, она заняла оборону, и, как ей прекрасно известно, бесперспективную.
Что же это за эволюция, что за прогресс, о котором я толкую? Но, чтобы объяснить, о чём речь, понадобится горстка постыдно мерзких, искусственных слов. Речь о политизации, радикализации, литераризации, интеллектуализации Германии, о её «очеловечивании» (в латинско-политическом смысле) и дегуманизации (в немецком)… Речь, пользуясь любимым словечком, воинственным, ликующим кличем литератора цивилизации, о демократизации Германии или, если всё объединить и свести к общему знаменателю, её дегерманизации… И мне участвовать в этом безобразии?
Самосозерцание
Неужели правда, что и в Германии уже силён космополитический радикализм?
Достоевский, «Сочинения»
Что ж, и я в нём участвую… Простоты ради перейдём к тем расшаркиваниям, нынче, разумеется, совершенно необходимым, когда кто-то намеревается говорить о себе. «Мировой слом! – слышу я. – Ей-богу, самое время среднему писателю отвлекать наше внимание на свою бесценную литературную личность!» Я называю это здоровой иронией. Но, с другой стороны, если приглядеться, не есть ли мировой слом самое время для каждого заглянуть в себя, посоветоваться с совестью, провести генеральную ревизию своих основ? Такая потребность кажется по меньшей мере понятной и простительной там, где даже в пору торжества внешней политики и «власти» главенствующий интерес сохраняет внутренняя политика, материи нравственные. Однако в том, что этого от меня требует совесть, а «самовлюблённость» и «честолюбивые амбиции» – диагноз наименее вероятный из всех, удастся убедить лишь сочувствие, не равнодушие и не неприязнь. Пусть я рискую проявить отсутствие вкуса, но должно же быть у меня право вообразить небольшой круг знакомых и незнакомых друзей в том смысле, что их серьёзное, живое участие в прежних моих исканиях и писаниях развило в них осознанное чувство общей за эти писания ответственности, совестной солидарности, которая связывает писателя с истинными его читателями и может оказаться достаточно крепкой, чтобы помочь им, как и мне, справиться с рискованной для нашего времени затеей в виде последующих отрывков.
Начнём с того, что имеются основания поставить моё право на «патриотизм» под сомнение, поскольку я не очень настоящий немец. Будучи на одну часть романской, латиноамериканской крови, я сызмальства был настроен скорее на европейский интеллект, нежели на немецкую поэтичность: разница… нет, противоречие, относительно которого, как я принуждён надеяться, изначально возникло единодушие, так что мне более не придётся на него напирать. Я никогда не пытался внушить себе, будто являюсь немецким поэтом наподобие Герхарта Гауптмана или Герберта Эйленберга, – речь, спешу добавить, отнюдь не о месте в иерархии, лишь о сути. Дар, слагающийся из синтетически-пластических и аналитически-критических свойств и избирающий художественную форму романа как сообразную себе, – по большому счёту не очень немецкий; роман вообще не вполне немецкий жанр; пока трудно себе представить, чтобы у нас, в «нелитературной стране», писатель, прозаик, романист занял бы в сознании народа столь же представительное положение, как поэт, чистый синтетик, лирик или драматург. Повторяю – пока, ибо литератор цивилизации желает, чтобы было иначе, и знает почему. Выход романа, точнее социального романа, на авансцену общественного интереса, несомненно, как точный термометр сможет замерить процесс олитературивания, одемократизовывания, «очеловечивания» Германии, о котором я говорил и в воспламенении которого, собственно, и заключается дело и миссия литератора цивилизации.
Вернёмся, однако, к личному! Назвав себя не самым настоящим немцем, я, надо сказать, пренебрёг той крайней осторожностью, которую тщательно соблюдал по отношению к литератору цивилизации. С собой я вправе поступать легкомысленнее. Но и тут я не вовсе забываю, что немецкая гуманистичность почти предполагает не немецкое, даже антинемецкое; что, по авторитетному мнению, разъедающая национальное чувство склонность к космополитичности неотторжима от немецкой национальности; что, вероятно, дабы обрести немецкость, её надлежит утратить; что без добавки чужого никакая высокая немецкость, пожалуй, невозможна; что как раз образцовые немцы были европейцами и сочли бы варварством любое ограничение рамками «ничего-кроме-немецкого». Уже Фонтане называл великого Шиллера получужаком, и если риторическая драма последнего, собственно, прописана в grand siècle, то потребовалось совсем немного, чтобы Ницше отослал творчество другого великого немецкого театрализатора к французскому романтизму. У Гёте по меньшей мере «Избирательное сродство» с формальной точки зрения не очень немецкое произведение, да и в целом проза его иногда офранцужена до невозможности (что у «поляка» Ницше удивить не может); Шопенгауэр же, кажется, сперва переводил свои параграфы на латынь, дабы затем, не без набежавших на чеканно-бессмертную точность процентов, вернуть их обратно в немецкий… На подобную национальную ненадёжность наших великих привыкли закрывать глаза, решив просто включить её в понятие наивысшей немецкости. Между тем я не настолько безумен, чтобы увязывать свой европействующий вкус с собственной значимостью (речь вообще не о ней). Не заслуга, вероятно, даже грех, но интимно-, исключительно немецкого мне всегда было мало, я толком не знал, что с ним делать. Кровь моя требовала европейского очарования. Художественно, литературно моя любовь к немецкому начинается там, где оно становится возможным, состоятельным в европейском масштабе, способным на европейский резонанс, доступным любому европейцу. Три имени, которые я обязан назвать, отвечая на вопрос о фундаменте моего духовно-художественного воспитания, три имени, навечно спаянные в трёхзвездие, что ярко светит на немецком небосклоне, отсылают не к интимно-немецкому, а к европейскому: Шопенгауэр, Ницше, Вагнер.
Взору моему является маленькая комнатка на верхнем этаже в предместье, где я – тому минуло уже шестнадцать лет – в странной формы шезлонге, или канапе, с утра до ночи читал «Мир как воля и представление». Одиноко-беспорядочная, алчущая мира и смерти юность – как судорожно она впитывала волшебное зелье метафизики, глубинная суть которого – эротика, и в котором я находил духовные источники музыки «Тристана»! Так читают раз в жизни. Такое не повторяется. И какое счастье, что мне не пришлось запереть это потрясение в себе, что тут же представилась прекрасная возможность о нём свидетельствовать, за него поблагодарить, что поэтическое пристанище для него было под рукой! Ибо в двух шагах от канапе лежала раскрытая, невозможно и непрактично распухшая рукопись – бремя, достоинство, родина и благословение странного юношеского возраста, крайне сомнительная в плане публичных качеств и перспектив, как раз доспевшая до расставания с Томасом Будденброком. Ему, трижды мистически-родственному мне образу – предку, отпрыску и двойнику, – я подарил драгоценный опыт, головокружительную авантюру, в его жизнь повествовательно вплёл её на самый последок, поскольку мне показалось, что она к лицу этому страдальцу, который отважно держался до последнего, этому столь близкому мне моралисту и «милитаристу», позднему, сложному бюргеру, чьи нервы в собственной среде уже чужие, одному из соправителей городской аристократической демократии, который, набравшись современности и сомнительности, обретя непривычные здесь вкусы и развитые европейские потребности, давно уже, посмеиваясь, начал отходить от своего окружения, так и оставшегося здоровым и узколобым, доподлинным. А потому незадолго до смерти Томас Будденброк лишь якобы случайно обнаружил книгу в запылённом углу книжного стеллажа; на пару лет раньше её обнаружила интеллектуальная Европа, к которой сей почтенный житель среднего города питал нервные симпатии; в интеллектуальной Европе воцарился, вошёл в большую моду пессимизм Артура Шопенгауэра, ибо этот немецкий философ уже не был «немецким философом» в привычном, недоступно-запутанном смысле. Он, конечно, остался очень немецким (можно ли быть философом, не будучи немцем?), поскольку, например, категорически не был ни революционером, ни велеречивым ритором, ни льстивым певцом человечества, а, напротив, метафизиком, моралистом, в политическом отношении, мягко выражаясь, индифферентным… Но, помимо этого, он приводил в немалое изумление и требовал немалой признательности как большой писатель, проницательный мыслитель, виртуозно владеющий языком и обладающий широчайшими возможностями литературного воздействия, европейский прозаик, каких среди немцев имелось, может, два-три, а среди немецких философов и вовсе ни одного… Да, это было внове, и воздействие было необычайным – на интеллектуальную Европу, пережившую и «преодолевшую» моду, на умершего Томаса Будденброка, и на меня, кто не умер и для кого это наднемецкое явление духа стало одним из источников столь неприличного с литературной точки зрения «патриотизма».
Примерно тогда же достигла вершины, или по крайней мере приблизилась к высшей точке, моя страсть к гезамткунстверку Рихарда Вагнера – я говорю «страсть», поскольку слова попроще, «любовь» или «восторг», не вполне точно отражают суть дела. Годы наибольшей способности увлекаться нередко становятся и порой наибольшей психологической восприимчивости, в моём случае мощно усиленной аналитическим чтением, а увлечённость в сочетании с познанием и есть страсть. Самым сокровенно-тяжким и плодотворным открытием моей молодости стало то, что страсть прозорлива – или не заслуживает своего названия. Любовь слепая, панегирически-дифирамбическая – смазливая придурковатость! Известного рода признанную литературу о Вагнере я и читать-то не мог. Но обостривший восприятие анализ, о котором я упомянул, вышел из-под пера Фридриха Ницше, анализ в особенности художничества, или, что для Ницше одно и то же, анализ Вагнера. Ибо везде, где в его сочинениях заходит речь о художнике и художничестве – к коим он отнюдь не благоволит, – без колебаний, даже если оно не встречается в тексте, можно подставить имя Вагнера; в основном на Вагнере Ницше познал и изучил если и не само искусство – хотя можно утверждать и это, – то по меньшей мере феномен художника, как позже куда менее одарённый потомок посредством этого анализа со страстью познавал творчество Вагнера, а в нём – почти само искусство, причём в решающие годы, и анализ этот навсегда определил мои представления о художественном и художническом, а если не определил, то как минимум окрасил, повлиял, и вовсе не в душевно-религиозном, скорее уж в слишком скептически-лукавом смысле.
Страсть есть проницательная увлечённость, прозорливая любовь. Прошу мне поверить, постоянство моей страсти к Вагнеру ничуть не пострадало оттого, что та преломилась в психологии и анализе, по утончённости, как известно, не уступающим своему колдовскому предмету. Напротив, самым тонким, самым острым жалом страсть впилась в меня именно тут, стала подлинной, отвечая всем требованиям, какие только подлинная страсть может предъявить нервному напряжению. Искусство Вагнера, каким бы ни казалось поэтичным, «немецким», в себе и для себя в высшей степени современно и не так уж невинно; умное и тонкое, тоскливое и скользкое, оно умеет так сочетать усыпляющие и бодрящие ум средства и свойства, что ценитель изматывается вконец. Увлечение им становится чуть не пороком, входит в отношения с нравственностью, приводит к безоглядному этическому погружению во вредное, выедающее внутренности, если оно окрашено не доверчивым энтузиазмом, а сплавлено с анализом, самые нелицеприятные прозрения которого в конечном счёте суть лишь форма прославления и, опять же, свидетельство страсти. Даже в «Ессе homo» есть место о «Тристане», являющееся вполне достаточным доказательством, что отношение Ницше к Вагнеру так и осталось сильнейшей любовью, вплоть до паралича.
Интеллектуальное название «любви» – «интерес», и тот не психолог, кто не знает, что интерес – отнюдь не блёклый аффект, что он куда интенсивнее, к примеру, аффекта «восхищения». Это, собственно, и есть писательский аффект, и анализ не просто не уничтожает его, но непрерывно питает – совсем не по-спинозиански. Так что интерес – вовсе не панегирик, он критика, резкая, даже злая, практически памфлет, если она остроумна и порождена страстью, утоляющей жгучий интерес; одно лишь восхваление для него пресно, он полагает, тут ничему не научиться. А если ещё удастся с толком воспеть предмет, личность, острую проблему, то выйдет нечто удивительное, почитающее почти делом чести остаться непонятым, продукт коварного, ловко сбивающего с панталыку восхищения, на первый взгляд до путаницы похожий на пасквиль. Я сам недавно дал незначительный тому пример, внеся в дискуссию о войне свою лепту – в виде историзирующего опуса, очерка жизни Фридриха Прусского, внушённого, даже выдавленного событиями эпохи сочиненьица, от публикации которого поначалу – война длилась ещё недолго – меня настойчиво отговаривали обеспокоенные друзья, и не из-за оскорбляющего литературу «патриотизма», а как раз по противоположным причинам…
Я знаю, к чему веду, говоря об этом. Оба – Ницше и Вагнер – великие аналитики немецкости; один использует опосредованный, художественный метод, другой – непосредственно писательский, причём, как нынче принято, по интеллектуальному осмыслению и многомерности художественный не отстаёт от писательского. Так вот, если не считать Ницше, в Германии не было анализа Вагнера, ибо «нелитературный» народ тем самым и непсихологичен, антипсихологичен. Бодлер и Баррес сказали о Вагнере лучше, чем все его немецкие биографии и апологии, а теперь вот швед В. Петерсон-Бергер в своей книге «Вагнер как культурное явление» дал нам, немцам, пару подсказок, каким боком лучше подходить к этому в невероятнейшем смысле интересному явлению – по-демократически прямо и смело, это позволяет хоть что-то в нём рассмотреть. Швед говорит о национализме Вагнера, о его искусстве как искусстве национально-немецком, отмечая, что немецкая народная музыка стала единственным направлением, которое не вобрал в себя его синтез. Ради колорита он, дескать, ещё может подпустить народную немецкую ноту, как в «Мейстерзингерах» или «Зигфриде», но она не является основой, отправной точкой его музыкальных сочинений, источником, из которого те фонтанируют, как у Шумана, Шуберта или Брамса. Необходимо отличать, полагает швед, народное искусство от национального: первое нацелено вовнутрь, второе – вовне. Музыка Вагнера скорее национальна, нежели народна; конечно, в ней много такого, что именно иностранец воспримет немецким, но при этом она несёт явную печать космополитизма. Что ж, легко попасть в цель, когда тебя заточили. Вагнер как духовное явление в самом деле колоссально немецкий, мне даже всегда казалось, что, дабы если не понять, так хоть чуточку почувствовать не только глубокое великолепие, но и мучительные противоречия немецкого естества, непременно нужно со страстью погрузиться в его творчество. Но помимо того что Вагнер – взрыв откровения немецкого естества, это ещё и его инсценировка, интеллектуализм и плакативное воздействие которой доходят до пародии, гротеска; инсценировка, которая, если говорить предельно грубо, моментами не может полностью избавить от подозрений, что имеет некое отношение к экспортной продукции, созданной с целью вырвать у содрогающейся от любопытства антантовской публики возглас: «Ah, ça c’est bien allemand par exemple!»
Итак, немецкость Вагнера, какой бы ни обладала подлинностью и мощью, на сегодняшний манер надломлена и надорвана, декоративна, аналитична, интеллектуальна; и сила её очарования, её врождённая способность к космополитическому, к всепланетарному воздействию – отсюда. Его искусство – небывалый автопортрет и небывалое самопостижение немецкого естества, какое только можно представить; оно исполнено так, что его немецкость покажется интересной даже полному ослу, если это иностранный осёл, и страстное увлечение им всегда становится и страстным увлечением немецкостью, которой оно поёт аналитически-декоративный гимн. Искусство это было бы таким уже в себе и для себя, но насколько же выигрывает, когда ведомо анализом, который, вроде бы говоря об искусстве Вагнера, в действительности говорит о немецкости в целом, хотя и не всегда столь откровенно, как в блестящем разборе увертюры к «Мейстерзингерам» из «По ту сторону добра и зла» (начало восьмого отдела). Если Ницше как знаток Вагнера и имеет соперников за границей, то как знаток немецкости он, ей-богу, не имеет их нигде, ни там, ни тут; именно Ницше нашёл для неё самые злые и самые прекрасные слова, и гениальность словоохотливости, которая овладевает им, несёт его за разговорами о немецком, о проблеме немецкости, – свидетельство его довольно-таки страстного к данному предмету отношения. Твердить о враждебности Ницше к немецкому, что иногда случается в Германии (заграница с большего расстояния видит точнее), так же пошло, как и называть его антивагнернанцем. Он любил Францию по причинам артистически-формальным, уж точно не по политическим; но покажите мне, где он говорит о Германии с тем же презрением, какое вызывал у него английский утилитаризм, английская немузыкальность! Честное слово, не вправе ссылаться на Ницше политические блюстители нравов, позволяющие себе литературно пороть свой народ, поучать его в выражениях, заимствованных из трескучей терминологии западного демократизма, но ни разу, ни разу в жизни не нашедшие ни единого слова проницательной страсти, закрепившего за ними право хотя бы поддакивать в разговорах о немецком… Я что хотел сказать: молодой человек, которого обстоятельства времени, вкус вынудили в основание своей культуры положить искусство Вагнера и анализ Ницше, воспитывать себя в первую очередь на них, не мог вместе с тем не увидеть в собственной национальной среде, в немецкости крайне занятный европейский элемент, провоцирующий страстную критику; в нём, и довольно рано, развился своего рода психологически ориентированный патриотизм, не имевший, разумеется, ничего общего с политическим национализмом, но всё же породивший определённую возбудимость национального самосознания, определенную нетерпимость к пошлым, проистекающим из невежества оскорблениям; примерно так любитель искусства, имеющий за плечами опыт глубокого проживания Вагнера, но по высшим духовным соображениям ставший противником его искусства, в ответ на ругань отстало-дремучей безграмотности будет испытывать нетерпеливое раздражение. «Интерес», перевернём уже сказанное, – это интеллектуальное название аффекта, чьё сентиментальное название – «любовь».
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе