Аллергия: Жестокие игры иммунитета
Текст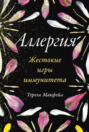


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 39,90 ₽
- Объем: 480 стр. 6 иллюстраций
- Жанр: здоровье и медицина, иммунология и аллергология, популярно о медицине
Несмотря на то что провокационные тесты – лучший способ подтверждения пищевой аллергии, их проводят реже всего. Причины различны, но есть несколько наиболее очевидных: стоимость такого теста очень высока, поскольку его необходимо проводить в больнице или другом медицинском учреждении, где смогут оказать помощь пациенту при развитии анафилаксии; для завершения пищевого провокационного теста требуется очень много времени, поскольку каждый аллерген требует отдельного тестирования с постепенным увеличением дозы в течение нескольких дней или недель; есть серьезный риск развития тяжелой реакции у испытуемых, особенно у маленьких детей[36]. Пищевые провокационные тесты заставляют родителей нервничать и могут вызывать сильное беспокойство у детей. При отсутствии провокационных тестов большинство пищевых аллергий диагностируется с помощью комплексного подхода: сбора подробного анамнеза, врачебного осмотра, прик-тестов и анализов крови на sIgE. (В этих случаях не рекомендуются следующие процедуры: внутрикожные тесты, которые могут вызвать тяжелые реакции; измерение общего уровня IgE-антител в сыворотке крови, позволяющее выявить наличие только генерализованных, а не специфических аллергических реакций; измерение IgG-антител, поскольку организм любого человека вырабатывает IgG в ответ на пищевые белки; проведение любых других тестов, направленных на оценку пищевой аллергии.) Получив всю эту информацию, опытный аллерголог сможет точно диагностировать большинство пищевых аллергий[37]. Тем не менее без провокационных тестов невозможно с абсолютной уверенностью выявить наличие истинной пищевой аллергии.
В дополнение к этим проблемам Сэмпсон отметил, что проведено явно недостаточно подобных исследований с участием взрослых испытуемых. Чаще всего исследование аллергии, особенно в отношении продуктов питания, проводится на маленьких детях (и тому есть разумное объяснение: у большинства пациентов пищевая аллергия впервые развивается в младенчестве или раннем детстве). Это затрудняет интерпретацию результатов исследований среди взрослых и может привести к путанице.
Диагностика пищевой аллергии осложняется еще и тем, что ее основные симптомы могут имитировать другие желудочно-кишечные заболевания или состояния, не имеющие отношения к аллергии. Существуют также другие расстройства, связанные с пищей, которые вообще не опосредованы IgE, – например, энтероколит, индуцированный пищевыми белками, и проктоколит, индуцированный пищевыми белками, а также эозинофильный эзофагит (ЭоЭ)[38]. Синдром энтероколита – это иммуноиндуцированное воспаление кишечника: оно сопровождается рвотой и диареей и часто провоцируется коровьим молоком или злаками. Синдром проктоколита, индуцированного пищевыми белками, – это иммуноиндуцированное воспаление толстой кишки: оно может привести к появлению ректальных кровотечений у младенцев и часто провоцируется коровьим молоком. Эозинофильный эзофагит – это воспаление, вызванное избытком эозинофилов (один из типов белых кровяных телец), выстилающих пищевод, которое провоцируется определенными продуктами питания (подробнее об ЭоЭ мы поговорим в главах 4 и 7). Эти редкие иммуноопосредованные заболевания (поражающие соответственно около 0,5 %, 0,12 % и 0,0005 % населения в целом) часто проявляются в младенчестве или раннем детстве, но не обусловлены действием IgE-антител. «И, к сожалению, – объясняет Сэмпсон, – ни для одного из них нет достоверного анализа».
Сэмпсон считает, что проблема с диагностикой пищевой аллергии и аллергии в целом частично заключается в том, что мы до сих пор не понимаем иммунологические механизмы, лежащие в основе многих разновидностей этого заболевания. Но число аллергиков продолжает расти, а у нас по-прежнему нет адекватных – соответствующих масштабу проблемы – диагностических инструментов.
Показательный пример – кожные прик-тесты. Они остаются самым распространенным, доступным и дешевым анализом, применямым для первичной диагностики аллергии. Но у 8–30 % людей[39] результаты теста будут положительными (то есть появятся волдыри) при отсутствии каких бы то ни было симптомов аллергии. Тем не менее результаты кожных проб по-прежнему считаются важными индикаторами заболевания, поскольку исследования выявили, что у 30–60 % пациентов, у которых наблюдается сенсибилизация[40] к определенному аллергену, в дальнейшем может развиться аллергия. Вот основное положение, которое вы должны уяснить после прочтения этой главы: анализы крови и кожные тесты показывают только сенсибилизацию к определенному аллергену; они никогда не подтверждают аллергию[41]. Любая кожная или респираторная аллергия должна быть подтверждена аллергологом на основании истории болезни пациента и наличия симптомов, возникающих в момент контакта пациента с аллергеном, так сказать, «в дикой природе» – в естественных условиях.
Объективная наука о диагностике аллергии все же достаточно субъективна. Многие специалисты, интерпретируя показатели кожных тестов, полагаются на свое внутреннее чутье, отточенное многолетним клиническим опытом. Как говорит доктор Пурви Парих, толкование результатов тестов на аллергию в XXI в. – в такой же мере искусство, как и наука.
Хорошие тесты, старые тесты, плохие тесты, новые тесты
В течение последних нескольких лет мой друг Дэвид испытывал боли в животе. Около года назад у него обнаружили грыжу, и он перенес две операции (первая прошла неудачно – редкость, но бывает). Дэвид всегда был в целом здоровым и счастливым человеком, но продолжительная болезнь вкупе с кризисом среднего возраста (на тот момент ему было 45) пробила брешь в крепостной стене его неиссякаемого оптимизма. Он удвоил количество занятий йогой, старался правильно питаться и в этой связи обратился к натуропату. Чтобы выяснить, нет ли у Дэвида аллергии на какие-нибудь пищевые продукты, натуропат решил направить его на анализ крови на антитела IgG. Врач предположил, что аллергия вполне может быть причиной такого длительного дискомфорта.
Дэвид отчаянно хотел выздороветь, поэтому решил сдать этот анализ. Зная, что я работаю над книгой не о чем-нибудь, а об аллергии, он написал мне по электронной почте с просьбой посмотреть результаты его анализов. По его словам, уровень IgG был повышен в ответ на несколько продуктов. Он собирался исключить их из своего рациона, но для начала решил узнать мое мнение – мнение в некотором смысле знатока.
На протяжении многих лет я слышала от аллергологов одно и то же: что тесты на IgG, откровенно говоря, полная чушь. IgG – это львиная доля антител, циркулирующих в нашем кровотоке, и они играют важную роль в нормальном функционировании иммунитета, а также причастны к некоторым аутоиммунным расстройствам (как мы видели в главе 1), но не имеют отношения к гиперчувствительности I типа или аллергии. Тем не менее люди в массовом порядке проходят коммерческие тесты на эти антитела, надеясь, как и мой друг Дэвид, разгадать причину многочисленных неприятных симптомов. Поскольку тесты ничего толком не могут сказать пациентам о вероятности наличия у них аллергии, большинство аллергологов считают эту новую тенденцию весьма тревожной. «Дело в том, что у каждого человека вырабатывается IgG в ответ на пищу», – объясняет Сэмпсон.
После еды, когда желудок начинает расщеплять и переваривать пищу, некоторые природные белки проходят через кишечный барьер и попадают в кровоток. Около 2 % белков, потребляемых нами ежедневно, оказываются в кровотоке в так называемой «иммуногенной форме». А это значит, что такие белки способны просто запускать нормальные иммунные реакции организма и активировать наши антитела. Помните, как доктор Эйвери Огаст определял иммунные клетки? Это «смотрители» нашего организма, которые определяют, чтó может стать его частью, а что нет. IgG и есть тот «смотритель», который отслеживает пищевые белки в нашей крови.
«Таким образом, если вы едите яйца и пьете молоко, у вас будут вырабатываться антитела IgG к яйцам и молоку, – говорит Сэмпсон. – Но доказательств, что патогенез [механизм развития заболевания] связан с этими антителами, не было и нет».
Другими словами, IgG нельзя считать причиной пищевой аллергии или гиперчувствительности I типа. Неверное истолкование результатов анализа крови приводит к тому, что многие люди исключают из своего рациона самые основные и полезные продукты. Затем, при повторной сдаче крови на анализ, оказывается, что уровень IgG снизился. Человек рассуждает так: если усилия по избеганию тех или иных продуктов принесли плоды, значит, у него действительно была «аллергия» на эти продукты. Однако в реальности нет никаких доказательств того, что выработка IgG имеет какие-либо негативные последствия для организма. Разумеется, с физиологической точки зрения смысл есть: если вы отказываетесь от определенных продуктов, ваш организм перестанет вырабатывать к ним антитела. Однако вы можете ненамеренно «настроить» организм таким образом, что антитела увидят в таких белках угрозу, если в будущем вы употребите их в пищу.
Появляется все больше доказательств того, что антитела IgG действительно могут защищать от аллергической реакции, поскольку у пациентов, проходящих курс иммунотерапии при пищевой аллергии, в процессе лечения часто вырабатывается значительное количество антител IgG. По мере того как их организм учится переносить небольшое количество белков, на которые у них есть аллергия, уровень IgG повышается. По мнению Сэмпсона, это убедительное доказательство того, что такие антитела, вероятно, играют определенную роль в нормальной, здоровой иммунной функции.
«Если вы пьете молоко, но при этом у вас не вырабатываются IgG-антитела к нему, это повод начать беспокоиться о состоянии вашей иммунной системы», – говорит Сэмпсон. Он солидарен с коллегами: тесты на IgG не только практически бесполезны при диагностике аллергии, но и, вероятно, должны быть запрещены для массового использования – до тех пор, пока не будет доказана их диагностическая достоверность. Когда я спросила, почему же многие по-прежнему свято верят результатам подобных анализов, несмотря на полное отсутствие доказательств того, что IgG вызывает аллергию, Сэмпсон задумался. Немного помолчав, он заметил, что, по его мнению, с этими тестами связан существенный эффект плацебо, поскольку они очень дорого стоят. В зависимости от того, сколько аллергенов включено в анализ, общая стоимость исследования может доходить до нескольких сотен долларов. «Когда вы платите такие деньги, – рассуждает Сэмпсон, – вы буквально рассчитываете, настраиваетесь на то, что вам точно станет лучше». Если человек предполагает, что почувствует себя хуже после употребления продуктов, которые, по его мнению, вызывают неприятные симптомы, то так и случится. Это эффект ноцебо – «злой двойник» плацебо.
Когда я написала моему другу Дэвиду о полном единодушии всех знакомых аллергологов по поводу того, что тесты на IgG в лучшем случае бесполезны, а в худшем – опасны, он ответил: нет, я вполне доверяю своему натуропату. И добавил, что чувствует себя гораздо лучше с тех пор, как начал избегать глютена и молочных продуктов. Я попыталась его переубедить, но он, уверенный в своих внутренних (в прямом и переносном смысле) ощущениях, был непреклонен. Меня такой финал сильно разочаровал, однако Сэмпсон отнесся к ситуации с пониманием и нисколько не удивился реакции Дэвида. Он и сам много раз сталкивался с подобными историями.
«Когда я только начинал заниматься пищевой аллергией, – рассказывает Сэмпсон, – я тратил все свое время, пытаясь убедить пациентов в том, что определенная пища – причина их симптомов. Теперь же я изо всех сил пытаюсь убедить их в обратном и объяснить, что еда не причина аллергии. Люди без конца сдают анализы, проводят эти безумные тесты. Проблема в том, что все едят пять или, скажем, шесть раз в день, и всегда можно увязать аллергию с тем, что ты съел. Так что в данном случае история может быть очень запутанной».
Тем не менее Сэмпсон признался: когда он несколько десятилетий назад впервые услышал об оральном аллергическом синдроме, то был уверен, что в действительности такого заболевания не существует. Этот синдром тесно связан с сезонной аллергией на пыльцу и не имеет таких серьезных симптомов, как «полноценная» пищевая аллергия. Всякий раз, когда человек с оральной аллергией ест определенные фрукты или овощи, его иммунная система распознает молекулярную структуру этих продуктов как сходную с тем типом пыльцы, на которую у него имеется аллергия, и у него во рту возникает покалывание или зуд. Сэмпсону такая реакция казалась невероятной, но оказалось, что это вполне реальное явление. Таким образом, хотя это и крайне маловероятно, нельзя полностью исключать возможность того, что IgG все же играет небольшую роль в определенных аллергических расстройствах. Сэмпсон и сам в ходе исследований раз за разом с удовольствием убеждался в собственной неправоте. Он считает, что мы до сих пор многого не понимаем в аллергических иммунных реакциях. Возможно, есть условия и триггеры, о которых пока ничего не известно (мы вернемся к этому в главе 6, когда будем разбирать относительно новую «аллергию на мясо»). Но Сэмпсона обнадеживает рост внимания к вопросам аллергии, а также увеличение финансирования этой области в последние 20 лет. Он надеется, что непрерывные исследования в конечном счете искоренят все подобные болезни, однако не думает, что это произойдет в ближайшее время. Уж точно не при его жизни – и, наверное, не при моей. По словам Сэмпсона, все, что мы можем сделать сейчас, – искать и находить способы подавить иммунный ответ, а не пытаться остановить его полностью. И для этого нам нужно продолжать трудиться над разработкой более совершенных диагностических инструментов для выявления аллергии.
Уязвимые пациенты и врачи
Если вы уже не чувствуете особой уверенности в современных диагностических инструментах для выявления аллергии, то знайте: вы не одиноки. Аллергологов часто не устраивают доступные им инструменты, и они надеются на скорейшее появление новых, более точных средств для диагностики. Доктор Ручи Гупта, педиатр и эпидемиолог из Северо-Западного университета, в разговоре со мной отметила, что современные тесты очень хорошо определяют отсутствие аллергии, а вот ее наличие «видят» далеко не всегда.
«Отрицательная прогностическая ценность весьма высока, но положительная остается очень низкой, – считает Гупта. – Это все равно что бросать монетку. Если ваш тест показал положительный результат, это означает пятьдесят шансов из ста за то, что у вас есть пищевая аллергия, и столько же за то, что у вас ее нет».
Понимаю: утешение слабое.
Это значит, что будущие тесты – в идеале – должны включать методы, которые не так сильно полагаются на IgE как на признак истинной аллергической реакции, тем более что IgE-реакции не всегда указывают на наличие аллергии: существует много ее видов, не опосредованных IgE, которые нельзя выявить с помощью современных методов.
Отчасти такие сложности с тестами на аллергию связаны с двумя фундаментальными проблемами самих научных исследований. Первая заключается в возможностях научных технологий – ограниченности того, чтó мы можем наблюдать и изучать. Вторая проблема кроется в том, что все научные знания опираются на средние значения.
«Когда мы исследуем кровь, – объясняет доктор Алкис Тогиас из NIH, – то видим миллиарды клеток, однако зачастую смотрим на среднюю реакцию этих клеток на что-то конкретное или выявляем среднюю экспрессию определенной молекулы. За этими средними показателями очень многое остается неизученным. Например, у одного и того же человека может оказаться множество клеток с весьма низким уровнем экспрессии. Мы смотрим на среднее значение и, конечно, упускаем из виду, что существует две популяции клеток».
Другими словами, некоторые клетки могут реагировать на определенный аллерген, а некоторые – нет. Но результат анализа крови – усредненная реакция всех имеющихся клеток. В результате маскируется тот факт, что некоторые клетки очень реактивны, зато другие вовсе не реагируют. На деле же это означает, что ваш анализ крови может показать отрицательные результаты, даже если некоторые из ваших клеток положительно отреагировали на аллерген, – или наоборот.
Тогиас напомнил мне, что исследователи – как из NIH, так и по всему миру – усердно трудятся над разработкой новых молекулярных инструментов для диагностики аллергии. Впрочем, эти диагностические инструменты, скорее всего, окажутся значительно дороже – их использование будет ограничено, а то и вовсе недоступно для тех, у кого нет возможности обратиться за надлежащим медицинским обслуживанием или нет средств, чтобы оплачивать обследование и лечение из своего кармана. В обозримом будущем при постановке большинства аллергических диагнозов мы по-прежнему станем полагаться на описанные в этой главе тесты.
Но если, как мы увидели в главе 1, аллергия сама по себе может быть нечетким термином, а ее диагностика в лучшем случае сложна, то как же оценить, насколько серьезна глобальная проблема аллергии на самом деле?
Глава 3
Наш уязвимый мир: как измерить рост аллергических заболеваний
Проблема неточных цифр
Аллергия – всегда не то, чем кажется. Ей трудно дать определение. Еще труднее ее диагностировать. Но самое трудное – вести подсчеты.
Точные данные о частоте возникновения аллергических заболеваний имеют большое значение. В медицинских исследованиях цифры управляют всем, от выделения средств до разработки новых лекарственных препаратов. Чтобы понять, насколько серьезной может быть проблема и почему аллергия претендует на статус определяющего хронического заболевания XXI в., мы должны с головой окунуться в статистику. Нижеприведенные цифры, основанные на новейших доступных данных (я, конечно, имею в виду – на момент написания этой книги), показывают, насколько распространена эта болезнь в наши дни.
● Примерно 235 млн человек во всем мире страдают астмой.
● От 240 млн до 550 млн жителей нашей планеты страдают от пищевой аллергии.
● Лекарственная аллергия поражает до 10 % населения и до 20 % всех госпитализированных пациентов по всему миру.
● От 10 % до 30 % всего населения страдают сезонным аллергическим ринитом (поллинозом).
● По меньшей мере одной формой аллергического заболевания страдают 20–30 % всего населения Индии.
● Респираторная аллергия поражает 33 % индийцев.
● Той или иной формой хронической аллергии страдают 150 млн европейцев.
● У половины населения Уганды есть аллергия.
● Пищевая аллергия поражает 7,7 % детей в Китае.
Эти цифры в каком-то смысле непостижимы по своему масштабу, и все же это наша с вами повседневная реальность. Большинство людей привыкли к таблицам, графикам, результатам опросов и процентным соотношениям, которыми пестрят новостные ленты, а факты и цифры способны заинтриговать, ошеломить, обескуражить и наскучить – причем все это одновременно. Мы живем в эпоху больших данных, глобальной науки и электронных таблиц Excel. Есть фраза, которую приписывают Иосифу Сталину: «Смерть одного человека – это трагедия. Смерть миллионов – это статистика». Если спроецировать эту логику на проблемы в области современных заболеваний, то, возможно, станет ясно, почему мы до сих пор не уделяли достаточного внимания этим поразительным показателям. Если всего один ребенок умирает от анафилаксии из-за употребления арахиса или от приступа тяжелой аллергической астмы – это трагедия. Но если миллионы людей страдают от пищевой аллергии или астмы и не умирают – это всего лишь статистика. Хотя огромные цифры многое говорят о масштабах глобальной проблемы аллергии, они не могут рассказать всего, что нам следует знать.
За всеми этими показателями трудно увидеть живых людей из плоти и крови – аллергиков, которые ведут ежедневную коллективную борьбу с болезнью. Отдельные личные истории – моего отца, моя и, возможно, ваша – как правило, теряются. Важные детали и контекст, то есть весь жизненный опыт миллиардов аллергиков, выпадают из общего массива данных.
Возьмем, к примеру, Веронику. Она жизнерадостная женщина лет 30 с небольшим, но ее респираторная аллергия протекает настолько тяжело, что Вероника всякий раз с ужасом ждет наступления весны. Потепление, зеленые побеги, пробивающиеся из-под земли, постепенно удлиняющиеся дни, распускающиеся почки на деревьях – все это чревато для нее катастрофой, если она не успела заблаговременно начать прием прописанных лекарств. Из-за капризов меняющегося климата этот вопрос – когда придет весна? – с каждым годом все больше и больше напоминает игру в угадайку. Вероника пытается записаться на прием к лечащему врачу за 3–4 недели до того, как весна полностью вступит в свои права. Но даже при идеальных расчетах аллергия все равно может быть непредсказуемой. Если выдастся особенно плохой год – пыльцы заметно больше или сезон цветения тянется дольше обычного, – Вероника все равно будет мучиться, даже принимая выписанные ей антигистаминные препараты.
«Отправляясь на работу, всегда проверяю, не забыла ли я надеть солнцезащитные очки, – пояснила она, когда мы, уютно устроившись в ее офисе, обсуждали коварство аллергии. – Глаза – мои болевые точки. Если я забываю надеть очки, то выгляжу зареванной или так, будто всю ночь плясала на вечеринке. В любом случае, на работу в таком виде не покажешься».
Каждый день, возвращаясь домой, Вероника принимает душ, чтобы смыть пыльцу с волос. Она избегает мероприятий на свежем воздухе в дни, когда пыльцы в воздухе особенно много, а 3–4 мес. в году постоянно чувствует усталость. Когда я спросила, находит ли ее проблема понимание у мужа, друзей и семьи, она кивнула: «У всех членов моей семьи есть аллергия, поэтому они меня прекрасно понимают. Каждый из них принимает кларитин, ксизал… и далее по списку». В последнее время, по ее словам, болезнь у всей семьи, похоже, усугубляется. Пока прописанный ей препарат работает – кажется, что все в порядке. Но она очень тревожится: вдруг даже самые лучшие рецептурные лекарства перестанут ей помогать?
________
Когда я только начала изучать статистику, она меня ошеломила и одновременно сбила с толку. На чем именно основываются официальные данные? Почему они часто варьируются или отражают такой широкий спектр возможных допущений? Очевидно, что все статистические данные – это оценки. Они рассчитываются на основе небольших репрезентативных выборок. Однако мне хотелось получить более подробную информацию о том, кто и как формировал эти самые выборки, поэтому я обратилась в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в попытке найти хоть какие-то ответы. CDC отслеживает показатели по астме и пищевой аллергии, поскольку это две самые смертоносные формы аллергических заболеваний, которые, судя по всему, и вносят наибольший вклад в общенациональные показатели смертности. Однако мне так никто и не ответил, хотя я не раз звонила и писала электронные письма сотрудникам CDC. Побегав еще немного и побеседовав с исследователями аллергии, я поняла, почему не получила ответов: весьма сложно – если вообще возможно – с абсолютной достоверностью выяснить, сколько людей страдают аллергией. Ничуть не проще однозначно ответить на вопрос, который интересует всех: усугубляется ли ситуация?
Это был едва ли не самый острый вопрос, который возник у меня после того, как мне самой поставили диагноз, и после первых разговоров с другими людьми об их аллергических заболеваниях. Медицинские работники, аллергологи, сотрудники фармацевтических и биотехнологических компаний, здоровые люди и аллергики (такие, как Вероника и, вполне возможно, вы, заинтересованный читатель) – все хотят знать, встречается ли сейчас аллергия чаще, чем прежде, и станет ли расти в обозримом будущем уровень заболеваемости. Действительно ли ситуация стала хуже, чем была 10 лет назад, 20 или 30? Действительно ли число аллергиков на протяжении этих десятилетий выросло? Или же новые просветительские кампании в области здравоохранения и более точные диагностические инструменты просто помогли специалистам лучше выявлять и диагностировать болезнь, то есть растет именно итоговая статистика? Действительно ли люди, живущие в XXI в., более склонны к развитию аллергии или сталкиваются с более тяжелыми симптомами?
Пять с лишним лет я писала эту книгу и проводила исследования, читала об истории аллергии, беседовала с аллергологами, посещала научные лаборатории. И каждому, с кем посчастливилось общаться, задавала одни и те же вопросы: становится ли аллергия все более распространенной болезнью среди населения в целом и приобретает ли она более серьезный характер? Почти все отвечали на оба вопроса утвердительно. Однако мне не раз указывали, что мы пока в самом начале пути к пониманию аллергии с научной точки зрения, – данные, которыми мы в настоящее время располагаем, не так совершенны, как могли бы (или должны) быть.
Специалисты, посвятившие аллергии десятилетия, были единодушны: точно оценить текущую ситуацию очень трудно – потому что крайне трудно получить достоверные данные об общем числе аллергиков. С одной стороны, у нас есть бесчисленные рассказы людей, страдающих от разных аллергических заболеваний – экземы, астмы, поллиноза, пищевой аллергии, а также клинические заметки и диагнозы врачей или аллергологов. С другой стороны, есть собранные и обобщенные официальные статистические данные. Если углубиться в эти эпидемиологические исследования, можно быстро обнаружить несколько очевидных проблем.
Начнем с того, что определение аллергии (и, что гораздо важнее, определение того, чем аллергия не является) может повлиять на подсчеты и снизить точность статистики. Категории болезней не какие-то устойчивые, неизменные образования – они представляют собой описания совокупности типичных симптомов и биологических признаков заболеваний. Даже, казалось бы, «простое» определение такой болезни, как астма, оказывается куда более запутанным, чем кажется на первый взгляд.
Официальное определение астмы с 1950-х гг. менялось неоднократно. Эпидемиологические исследования не всегда используют одни и те же маркеры заболевания, поэтому тот, кого одни ученые считают астматиком, у других может им и не оказаться. В ходе одного метаанализа ученые обнаружили, что при проведении 122 исследований распространенности астмы среди детей стандартизированные определения или симптомы этого заболевания не использовались – это сделало невозможным обобщение или сравнение данных[42]. Учеными было сформулировано 60 различных определений астмы. Когда к одной и той же выборке применили всего четыре наиболее популярных определения, разброс данных – иначе говоря, ответ на вопрос о том, сколько детей следовало отнести к категории «страдающие астмой», – оказался поразительным. В зависимости от используемого определения, до 39 % испытуемых могли как относиться, так и не относиться к астматикам.
Итак, есть ли астма у детей, участвовавших в этих исследованиях? Или ее нет? И кто это решает? Родители, которые замечают, что их дети слегка хрипят во время игры на площадке или тяжело дышат перед сном? Педиатры, которые собирают семейный анамнез, а затем исследуют функцию легких у своих маленьких пациентов с помощью спирометра? Или эпидемиологи, которые изучают связанные с астмой страховые случаи, количество выписанных рецептов на ингаляторы или данные опроса родителей с детьми в возрасте до 18 лет? Вот что создает сложности при сборе, расшифровке и описании эпидемиологических данных о числе аллергиков.
Доктор Гуржит Хурана Херши, врач детской больницы Цинциннати и исследователь астмы с многолетним опытом работы, объяснила мне, почему ту же аллергическую астму так трудно отследить.
«"Астма" – это, как говорится, мусорный термин, – говорит она. – Это название симптома, а не болезни. Сама болезнь бывает разнородной и определяется совокупностью симптомов, которые могут возникать разными путями». Иначе говоря, не только аллергия, но и многие другие медицинские состояния способны вызвать астматическую реакцию. По словам Хураны Херши, это и мешает провести точный подсчет случаев именно аллергической астмы или отделить аллергию от других причин астмы, таких как физическая нагрузка или иные легочные заболевания. Еще больше усложняет ситуацию то, что аллергия, даже не будучи основной причиной астмы у пациента, все равно может оказаться внешним триггером (при реакции на вещества из окружающей среды) приступа астмы. Не изучив историю болезни каждого пациента, невозможно сказать, у кого из них «аллергическая» астма, а у кого «неаллергическая», но с аллергическими триггерами.
И это касается не только астмы.
Определения почти всех типов заболеваний, используемые для сбора официальных данных о глобальных показателях аллергии, – нечеткие, спорные и постоянно меняются. Удивительно, но определить поллиноз – старейшую аллергию, признанную медициной, – гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, а симптомы, используемые для ее оценки, могут сильно различаться. И даже если исследования проводятся строго и тщательно, с опорой на клинические тесты или официальный диагноз для подтверждения заболевания (а в большинстве случаев это не так), итоговые цифры в первую очередь все равно зависят от того, как исследователи изначально определили категории заболеваний. Все это, мягко говоря, сбивает с толку и обескураживает, а также приводит к большому расхождению в официальных данных о количестве страдающих аллергией.
Приведу наглядный пример того, как трудно определить точное число людей, которые мучаются насморком, чихают или испытывают иное раздражение. Показатели заболеваемости аллергическим ринитом варьируют: от 10 % до 40 % населения. В глобальном масштабе разница между 10 % и 40 % огромна – это все равно что прибавить или вычесть население целого континента. Столь большие расхождения обусловлены разницей в определении термина «поллиноз», диагностическими критериями, используемыми для оценки этого заболевания в индивидуальных и общенациональных исследованиях (например, слезотечение или частое чихание), и измеряемыми группами населения (зависимость от того, какие социально-экономические слои и географические районы представлены в данных обследования).
Начнем с того, что не все, у кого есть поллиноз, сдают анализы, подтверждающие его наличие, а случаи самодиагностики не всегда отражаются в официальной статистике. При обращении к терапевту или врачу общей практики пациенты с аллергическим ринитом не всегда получают точный диагноз. Кроме того, не все, у кого есть аллергия, знают об этом или считают себя аллергиками, особенно если симптомы умеренные, а контакт с аллергеном происходит редко. Мой папа не знал о своей аллергии на пчелиный яд, а я не знала о своей респираторной аллергии – ни он, ни я не поставили бы в семейной истории болезни галочку в графе «Аллергия» и не ответили бы утвердительно на вопрос о ее наличии. А ведь чаще всего именно так и собираются данные о распространенности этого заболевания – о нем спрашивают напрямую или проводят опрос по поводу имеющихся симптомов.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽