Аллергия: Жестокие игры иммунитета
Текст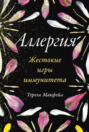


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 39,90 ₽
- Объем: 480 стр. 6 иллюстраций
- Жанр: здоровье и медицина, иммунология и аллергология, популярно о медицине
Часть I
Диагностика
Первый шаг на пути к пониманию того, что такое аллергия в XXI в., – изучение всех симптомов, которые обычно связываются с этим заболеванием. В следующих трех главах мы подробнее рассмотрим, какие проблемы вызывает болезнь, проанализируем последние статистические данные и услышим истории аллергиков о том, каково это – жить с поллинозом, аллергической астмой, аллергическим дерматитом или экземой, с пищевой или лекарственной аллергией и с аллергией на насекомых. Дело осложняется тем, что диагностировать аллергию не так-то просто, как и «официально» отличать ее от непереносимости или чувствительности к определенным веществам. Наша иммунная система устроена сложно, и аллергия – это целый спектр проявлений: от полномасштабной иммунной реакции до легкого (или умеренного) раздражения и полной толерантности. Чтобы лучше понять, что такое аллергия, а что нет, погрузимся в историю изучения иммунной системы и разберем, как в нее вписывается это заболевание.
Глава 1
Что называется аллергией (а что нет)
Раньше, до того, как я приступила к работе над книгой, мне и в голову не приходило, насколько масштабна проблема аллергии. Примерно 40 % всего населения Земли уже страдают тем или иным аллергическим заболеванием[3]. А к 2030 г., согласно оценкам экспертов, показатель вырастет до 50 %. Но прежде чем разбираться, в чем смысл этих значений и почему прогнозируется рост количества аллергиков в течение следующих десятилетий, необходимо ответить на основополагающий и фундаментальный вопрос: что такое аллергия?
Когда я только-только начала общаться с учеными и аллергологами, то искренне полагала, что понимаю механизм аллергии. На вопрос, что это такое, я бы уверенно ответила: «Аллергия – негативная реакция организма на то, что человек съел, потрогал или вдохнул». Если бы от меня потребовали подробностей, я бы, вероятно, изложила известные факты из общего курса биологии: иммунная система человека похожа на защитный механизм. Она реагирует на чужеродные вещества, будь то вирусы, бактерии или паразиты, и защищает нас от инфекции. Но у людей, страдающих аллергией, иммунная система запускает реакцию на вещества, встречающиеся в окружающей среде (например, на пыльцу, молоко или никель в украшениях, изготовленных из металлических сплавов), – иными словами, на то, что для обычных людей совершенно безвредно. А в качестве возможных симптомов перечислила бы насморк и заложенность носа, чихание, кашель, сыпь, покраснение кожи или крапивницу, отечность и даже затрудненное дыхание.
Когда я прошу обычных людей (то есть не ученых или биомедицинских экспертов) объяснить, что такое аллергия, они обычно отвечают в полном соответствии с моим первоначальным представлением. Независимо от возраста, профессии или социального статуса они понимают эту болезнь как своего рода «нарушение равновесия в организме, вызванное попаданием в него аллергена, вещества извне». Именно такое описание дал мне один молодой человек – к слову сказать, не аллергик. По его мнению, аллергены по какой-то причине «просто не вписываются в организм, и он пытается от них избавиться». Другой собеседник описал аллергию как процесс «саморазрушения» организма, не способного справиться, скажем, с частичками пыльцы или определенной пищей. Мне запомнился еще один разговор: уроженец мексиканского города Чиуауа недалеко от границы с Техасом, страдающий от нескольких видов аллергии, предполагал, что его организм постоянно находится в активном режиме защиты, но ничего плохого в этом не видел: значит, он лучше защищен, чем люди, у которых нет аллергии, поскольку его тело гораздо более «настороженно» и «бдительно» воспринимает раздражители окружающего мира. Все вышеперечисленное – довольно точные описания иммунных реакций аллергического типа, и люди, которые так думают, в целом правы… за исключением того, что они ошибаются.
Даже сами аллергики не всегда понимают, что такое аллергия, и не всегда могут отличить ее проявления от других заболеваний – не аллергических, но имеющих схожие симптомы.
Возьмем, к примеру, Крисси[4], одну из первых пациенток, с которой я беседовала в ходе работы над этой книгой. К моменту нашего разговора Крисси уже много лет страдала от симптомов респираторной аллергии, а также от крапивницы, периодических отеков глаз и регулярных проблем с желудком. Ей диагностировали поллиноз, или так называемый сезонный аллергический риноконъюнктивит, и время от времени девушка посещала оториноларинголога, если симптомы менялись или усиливались. При употреблении молока или продуктов, содержащих глютен, ее желудочно-кишечный тракт неизменно давал сбой, а на коже появлялась сыпь. Несколько лет назад Крисси обратилась к аллергологу и сдала анализы на чувствительность к наиболее распространенным аллергенам. Однако по результатам кожных аллергопроб не было выявлено никаких реакций на пищевые аллергены, и врач предположил, что симптомы Крисси вряд ли вызваны пищевой аллергией. Специалист-отоларинголог, у которого наблюдалась девушка, неоднократно призывал ее пройти повторное обследование, но вместо этого она принялась читать в интернете публикации о своих симптомах, рассчитывая найти действенный способ борьбы с ними.
Когда я попросила Крисси дать определение аллергии, она ответила, что это состояние организма, когда он не способен справиться с определенными веществами, особенно если контакт происходит слишком часто или количество воздействующего вещества слишком велико. С течением времени и при многократном воздействии, объяснила она, организм теряет способность выдерживать эти столкновения, что приводит к появлению таких симптомов, как у нее. Крисси не верит результатам аллергопроб и настаивает, что ее аллергия носит именно пищевой характер: поскольку пшеница и молоко входят в состав большинства продуктов, девушка утверждает, что за десятилетия ее организм научился отторгать и то, и другое.
Именно с истории Крисси, которая была сбита с толку и отчаялась найти решение своей проблемы, я начинаю эту главу: моя собеседница не совсем правильно понимала природу и механизмы аллергии и в этом была похожа на большинство людей. Крисси права, предполагая, что ее организм реагирует на то, с чем уже неоднократно сталкивался, – в случае респираторной аллергии дело обстоит именно так; однако девушка не осознает, что ее организм, возможно, реагирует на пыльцу (не способен выдерживать или игнорировать ее воздействие, об этом мы еще поговорим подробнее). Вероятно, у Крисси нет истинной пищевой аллергии, несмотря на наличие вполне реальных симптомов, – ведь анализы так и не выявили у нее чувствительности к молоку или глютену, результаты кожных аллергопроб свидетельствуют об отсутствии реакции на эти аллергены. Другими словами, ее иммунная система вряд ли реагирует на продукты. А вот на что точно реагирует, так это на пыльцу – именно она вызывает симптомы поллиноза. В чем состоит основное заблуждение Крисси? Она не вполне осознает разницу между непереносимостью (в данном случае – непереносимостью определенных продуктов, вызванной, возможно, другим заболеванием: синдромом раздраженного кишечника или недостатком лактазы – фермента, который помогает расщеплять лактозу, содержащуюся в молочных продуктах) и аллергической реакцией (на переносимые воздушно-капельным путем аллергены). Кто ее осудит? Даже я, будучи медицинским антропологом и кое-что понимая в иммунологии, с большим трудом уяснила для себя эту разницу.
Чем глубже я погружалась в научную литературу об аллергии и чем больше беседовала с аллергологами и иммунологами, тем более размытыми и невнятными становились определения и формулировки. Чем больше я узнавала о тонкостях функционирования нашей иммунной системы, тем сложнее было понять природу аллергии – и это вдобавок к моему первоначальному удивлению и разочарованию. Оказывается, те проявления, которые мы обычно называем аллергией, на самом деле представляют собой целый спектр различных заболеваний. И все же у них есть общая черта: все они связаны с иммунной системой и с реакцией гиперчувствительности на вполне безобидное во всех остальных отношениях вещество под названием аллерген, которое у здоровых людей обычно не вызывает никакого иммунного ответа. Симптомы во многом зависят от того, как аллерген попадает в организм (через кожу, дыхательные пути или кишечный тракт), от индивидуальных генетических особенностей человека и множества путей аллергических реакций, которые задействует этот конкретный аллерген.
Итак, что же такое аллергия? Это опасная иммуноопосредованная реакция гиперчувствительности на безвредный антиген – токсин или чужеродное вещество, вызывающее иммунный ответ. Таково научное, «техническое» определение, вряд ли полностью понятное (пока что) для вас. Чтобы разобраться, что такое аллергия, давайте для начала посмотрим, как менялось определение самого термина на протяжении последнего столетия. Концепции этого заболевания чуть более 100 лет. Она зародилась на стадии самых первых исследований функции иммунной системы млекопитающих.
В итоге я поняла – и вы тоже скоро это поймете, – что аллергию вернее всего определять через биологические процессы, которые она запускает.
Эволюция еретической идеи: Краткая история аллергии
Прежде чем мы углубимся в сложную, полную хитросплетений историю аллергии и историю изучения устройства иммунной системы, важно с самого начала подчеркнуть, что на самом деле эта болезнь – вовсе не «явление», не «объект». По крайней мере не в том смысле, в каком мы привыкли думать о других вещах, которые нас окружают, – вроде столов, вирусов, кошек и т. п. Аллергию лучше воспринимать как сложный биологический процесс, в котором задействовано множество различных, пересекающихся компонентов нашей иммунной системы. Она больше связана с действиями наших иммунных клеток, чем с симптомами, которые мы можем испытывать из-за этих действий. История о том, как развивались наши знания об иммунитете, и о том, как благодаря им удалось открыть аллергические реакции, по-настоящему началась только на рубеже XIX–XX вв.
Представления об иммунной системе, как самые ранние, так и современные, сформировались во многом благодаря первоначальным знаниям о микробах. К концу XIX в. научное сообщество уже располагало результатами экспериментов Луи Пастера, Джозефа Листера и Роберта Коха: эти и другие известные ученые окончательно доказали, что невидимые живые микроорганизмы (например, бактерии сибирской язвы, туберкулеза и холеры) могут вызывать болезни, инфицировать раны и заставлять пищу портиться и гнить. Это новое объяснение принципов жизнедеятельности микроорганизмов и происхождения инфекционных заболеваний, больше известное как «микробная теория», породило современную медицинскую концепцию иммунитета – способности организма противостоять болезням.
Иметь иммунитет означает иметь «щит», который защищает и оберегает от инфекции, исходящей извне и вызываемой каким бы то ни было организмом. Биологические механизмы иммунитета стали главным фокусом научных исследований в области микробной теории конца ХIX – начала XX в. В итоге ученые сосредоточились на исследовании основных биологических механизмов, которые вызывали либо невосприимчивость, либо восприимчивость к заболеванию у отдельного животного после того, как оно подвергалось воздействию болезнетворного организма (в частности, бактерий сибирской язвы). У первых иммунологов была основная конечная цель: понять, как формируется иммунитет, и научиться влиять на него. В то время вакцины и сыворотки, содержавшие небольшое количество измененных микробов и антител, борющихся с болезнями, уже использовались в медицинских учреждениях для профилактики и лечения распространенных заболеваний, таких как оспа, дифтерия или столбняк, но механизм их действия по-прежнему оставался загадкой.
Воодушевленные успехом первых вакцин и сывороток, ученые и врачи твердо верили, что можно выработать иммунитет ко всем инфекционным заболеваниям и токсинам. Они полагали, что для этого требуется лишь более глубоко разобраться в том, как происходит процесс формирования иммунитета у животных. Общие усилия по изучению иммунитета и лечения различных заболеваний послужили фоном для случайного открытия аллергии.
Термин «аллергия», означающий «иное действие» (от греческих слов ἄλλος – «другой», «чужой» и ἔργον – «действие», «работа»), был изобретен в начале прошлого века австрийским педиатром и иммунологом Клеменсом фон Пирке, когда он работал в венской детской больнице. Пирке и его коллега Бела Шик заметили, что некоторые дети, которым вводили вакцину против оспы, изготовленную из сыворотки лошадиной крови (обычная медицинская практика того времени), плохо реагировали на вторую дозу вакцины: у них появлялись сыпь, зуд или воспаление в месте укола, повышалась температура. Предположив, что эти негативные биологические реакции вызывает один из элементов самой вакцины, ученые стали методично наблюдать за своими пациентами после повторных инъекций.
Первоначально Пирке использовал термин «аллергия» для обозначения любого измененного биологического состояния, хорошего или плохого, которое было вызвано воздействием чужеродного вещества – в данном случае сыворотки[5]. Согласно Пирке, негативные реакции или изменения состояния проявлялись сыпью или лихорадкой, вызванными инъекциями вакцины, положительные же связывались с развитием иммунитета вследствие тех же инъекций. Под аллергией – в первоначальном понимании этого термина – подразумевались и иммунитет, и гиперчувствительность. Термин был нейтральным и обозначал просто вызванные чем-либо изменения в биологическом состоянии пациента.
В 1906 г., когда Пирке впервые ввел термин «аллергия», даже само это понятие – иммунитет – было новым и крайне узким: так называлась только естественная защита организма от болезней[6]. Концепция иммунитета зародилась в политической, а не в медицинской сфере: первоначально под этим словом имелась в виду неприкосновенность (от латинского слова immunitas – «освобождение», «избавление») в смысле избежания наказания или ответственности[7]. В то время ученые позаимствовали термин и лишь немного изменили его значение. В области медицины иммунитет относится к естественной «неприкосновенности» по отношению к инфекционному заболеванию и указывает на статус полной защиты от «наказания» в виде болезни и, возможно, смерти. Иммунная система получила свое название вслед за устоявшимся представлением об иммунитете, и на тот момент представление о ней было, строго говоря, рабочей теорией, призванной объяснить любые биологические процессы, происходящие внутри организма и ответственные за формирование иммунитета. В те годы считалось, что единственная функция иммунной системы – это защита. Только защита. Первые клиницисты, такие как Пирке и Шик, наблюдая за негативной реакцией своих пациентов на те же вещества, которые должны были формировать иммунитет, считали, что у них на глазах происходит этап последовательного развития защиты организма от выбранного вещества. Они воспринимали сыпь, лихорадку и зуд в местах инъекций как свидетельство того, что вакцины или сыворотки действуют, то есть заставляют включаться защитные механизмы пациентов.
Но что, если иммунная система – Пирке и Шик начали это осознавать – вдруг совершит ошибку? Может ли иммунная система не только защищать нас, но и вызывать болезни? Что, если и сама иммунная система – а не только бактерии или токсины – способна стать причиной заболевания?
Эта идея воспринималась не столько как революционная, сколько как еретическая и – по крайней мере, сначала – осуждалась и отвергалась. Ученым, стоявшим у истоков иммунологии, казалось немыслимым признать, что иммунная система человека может каким-то образом причинять ему вред. Считалось, что выработка антител[8] и способность иммунной системы создавать специализированные клетки, которые противостоят вторжению в организм вредоносных веществ, – это безусловно полезный процесс. Допущение, что та же иммунная система, ответственная за борьбу с бактериями, может быть и первопричиной реакции гиперчувствительности, скажем, на лошадиную сыворотку или пыльцу, заставляло усомниться в результатах многолетней работы. Теория аллергии Пирке открыто бросила вызов фундаментальному принципу новой области иммунологии и, как следствие, была отвергнута большинством коллег. Потребовалось более 10 лет, чтобы ученые признали не только то, что она в принципе верна, но и то, что она может быть полезна с медицинской точки зрения.
По мере накопления клинических и лабораторных данных ученые постепенно осознавали, что данное Пирке описание аллергических реакций гораздо шире, чем казалось. В то же время врачи начали понимать, что такие реакции могут с легкостью объяснить многие хронические заболевания (например, сезонную бронхиальную астму, поллиноз, хроническую рецидивирующую крапивницу), которые часто наблюдались у пациентов. С годами эта концепция получила более широкое распространение, поскольку врачи, занимавшиеся лечением сложных и непонятных заболеваний, стали рассматривать «аллергию» как возможность поставить пациентам диагноз, который мог хотя бы частично объяснить, что с ними происходит. Со временем определение аллергии изменилось: этим словом стали называть лишь наиболее тяжелые и опасные реакции иммунной системы – так называемый чрезмерный иммунный ответ на безвредные во всем остальном вещества[9].
К середине и концу 1920-х гг. зарождающаяся область – аллергология – только начинала отделяться от иммунологии[10]. Термин «аллергия» регулярно использовался наравне с терминами «чувствительность», «гиперчувствительность», «гиперреакция» и т. п., то есть для обозначения любого чрезмерного иммунного ответа на условно безопасное вещество. Уоррен Воган, один из ведущих аллергологов того времени, определил эту болезнь как «гипервозбудимость или нестабильность части нервной системы»[11]. Будучи одновременно врачом и страстным научным исследователем, Воган был озадачен своеобразными, крайне индивидуальными реакциями некоторых своих пациентов на аллергены. Он не находил никакого объяснения, почему при контроле всех других переменных два человека могут так по-разному реагировать на один и тот же аллерген, – в этом не было никакой логической закономерности. Еще больше сбивало с толку то, что один и тот же пациент мог по-разному реагировать на одно и то же вещество в разные дни или даже в разное время одного и того же дня. Казалось, аллергические реакции вообще не подчинялись никаким биологическим правилам – по крайней мере, таким, которые Воган мог легко определить.
К началу 1930-х гг. Воган выдвинул гипотезу, что общая цель иммунной системы млекопитающих заключается в поддержании некоего «равновесия» – баланса – между организмом и окружающей средой. Таким образом, симптомы человека, страдающего аллергией, следовало рассматривать просто как признаки временного или хронического дисбаланса между самим больным и окружающим биологическим миром. Воган считал – и, как оказалось, правильно, – что аллергическая реакция начинается на клеточном уровне, а не на уровне организма в целом. Когда клетки аллергика сталкиваются с чужеродным веществом или испытывают экзогенный (внешний) шок, они реагируют слишком остро, выводя собственные биологические системы из равновесия – временно или хронически. Задача аллерголога – помочь пациенту вернуться в «сбалансированное аллергическое состояние» и затем поддерживать такое положение дел. Хрупкое равновесие между «нормальным» и «аллергическим» состояниями может быть нарушено – по крайней мере, так считал Воган, – любым стрессовым фактором в жизни пациента: тяжелой респираторной инфекцией, внезапным изменением температуры, гормональным сдвигом или общим повышением уровня тревожности.
Другие аллергологи того времени понимали аллергию аналогичным образом и были солидарны с мнением Вогана, усматривая в этих факторах причины ее возникновения у пациентов. Британский врач Джордж Брей определял аллергию как «состояние повышенной восприимчивости к различным чужеродным веществам или агентам»[12], которые в остальном безвредны. По мнению Брея, и анафилаксию, и аллергию лучше всего рассматривать как «несчастные случаи в ходе защиты организма». Доктор Уильям Томас называл эту болезнь «измененной реакцией»[13] и поставил под сомнение связь аллергии с развитием иммунитета после повторных бактериальных или вирусных инфекций (что само по себе являлось отголоском первоначального тезиса Пирке о взаимосвязи иммунитета и гиперчувствительности)[14]. В 1930-х гг., к моменту выхода заметок Томаса, исследователи уже заметили, что астму часто провоцирует бактериальная инфекция легких, и предположили, что существует связь между предшествующими респираторными заболеваниями пациента и развитием аллергии. В публикации, предназначенной для практикующих врачей, доктор Дж. Ориел утверждал, что существует только три возможных функциональных состояния иммунной системы: нормальное (ни аллергическое, ни иммунное – нейтральное), состояние сенсибилизации (аллергия) и состояние невосприимчивости (иммунитета)[15]. К концу 1930-х гг. термин «аллергия» перестал быть нейтральным обозначением любых биологических изменений, вызванных внешним раздражителем, и за ним прочно закрепилось другое значение: он стал пониматься исключительно как негативное описание очень ограниченного набора физических реакций на попадание в организм любого постороннего вещества. А к 1940-м гг. аллергия как медицинский термин окончательно стала воплощением «темной стороны иммунитета»[16].
Эта ее «репутация» укрепилась в конце 1950-х гг., когда знаменитый иммунолог Фрэнк Макфарлейн Бёрнет обнаружил, что некоторые заболевания, такие как волчанка и ревматоидный артрит, по сути представляют собой результат неспособности иммунной системы человека отличать «хорошие» клетки от «плохих» (или «свои» от «чужих»). Аутоиммунитет – когда организм атакует сам себя – занял центральное место в иммунологических исследованиях после того, как Бёрнет понял, что основной функцией иммунной системы является не защита организма от инфекционных захватчиков, а распознавание собственных клеток организма и отделение их от всего остального. Вступив в контакт с чем-либо из непосредственного окружения, иммунная система либо решает принять инородное, «чужое» вещество (как это происходит с большинством белков, поступающих с пищей), либо атаковать его, как это происходит с вирусами и бактериями. У людей с аутоиммунным расстройством иммунная система совершает фундаментальную ошибку, путая собственные клетки организма с чужеродными, и становится сверхчувствительной, то есть чрезмерно остро реагирует на них. По существу, она запускает реакцию на собственные ткани организма.
Догадка Бёрнета об аутоиммунитете заложила основу для дальнейших научных исследований иммунной функции вплоть до последних десятилетий XX в., поскольку иммунология все больше и больше фокусировалась на исследовании процессов развития иммунологической толерантности, а не защиты. Сегодня аллергия и аутоиммунитет в основном рассматриваются как вариации на одну и ту же тему, а не как совершенно разные проблемы. Оба термина отражают то, как биологические механизмы, лежащие в основе иммунитета к заболеваниям и переносимости как природных, так и искусственных веществ, могут дать сбой. В XXI в. первоначальное предположение Пирке, что человеческая иммунная система может столь же легко навредить, сколь и защитить, больше не ересь, а каноническое понимание общей иммунной функции и дисфункции.
Более поздние работы в области иммунологии вновь претерпели изменения: концепция Бёрнета о «своих» и «чужих» веществах преобразовалась в современное представление о том, как наши собственные клетки взаимодействуют с триллионами инородных клеток, частиц и химикатов в кишечнике, полости носа и на коже. Но как же организм решает, с какими веществами бороться, а с какими нет? Иными словами, как наши иммунные клетки определяют – угрожают ли организму вещества, которые содержатся в окружающей среде? Это пока остается загадкой. Доктор Памела Геррерио, один из ведущих исследователей пищевой аллергии, врач-клиницист Национальных институтов здравоохранения США (NIH), отметила: «Мы до сих пор не понимаем, что за механизмы лежат в основе иммунной толерантности, то есть не можем объяснить, почему одни вещества мы переносим, а другие нет». По словам доктора Эйвери Огаста, профессора иммунологии Корнеллского университета, до сих пор ведутся ожесточенные споры о конечной функции иммунных клеток. Принимая во внимание очевидность защитной функции, Огаст предпочитает считать иммунные клетки «смотрителями» нашего организма, которые постоянно оценивают все, с чем мы сталкиваемся, и принимают миллионы микрорешений о том, что может стать его частью или сосуществовать с ним, а что нет. Но одно мы, кажется, знаем наверняка: в XXI в. наша иммунная система становится все более восприимчивой и все хуже и хуже переносит даже условно «полезные» вещества из окружающей среды.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽