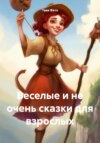Читать книгу: «Веселые и не очень сказки для взрослых», страница 5
Тень отца Вернера
Работы опять не было. Откуда же ей взяться? Из-за кризиса и санкций совместное предприятие закрылось, а в других организациях нашего города переводчик никого заинтересовать не мог. Попробовала обратиться в школы, но и там учителей иностранного языка оказалось более чем достаточно, так что пришлось обзванивать знакомых, чтобы найти хоть какую-то подработку. И это жизненное невезение обернулась неожиданным приключением. Хотя сначала все было очень печально. Мои телефонные звонки за целый день не дали никакого результата, и я уже решила, что на сегодня хватит, как вдруг телефон пронзительно зазвонил сам.
– Милена? Это вы? – вопрос был задан по-немецки, и имя мое тоже прозвучало в забытом немецком варианте.
– Да, я вас слушаю, – ответила я, несколько удивившись происходящему. К немцам с просьбами о работе я, кажется, пока не обращалась.
– Здравствуйте, это Ральф, много лет назад вы сопровождали меня в качестве переводчика в путешествии по Смоленщине.
Голос говорившего был глухим и слабым, и я сделала вывод, что человек очень болен.
– Да, Ральф, я помню, здравствуйте.
И в моей памяти сразу всплыла эта давняя поездка в вымирающую деревню с высоким сухопарым немцем, который спустя пятьдесят с лишним лет решил вернуться в места боевой молодости по непонятной мне причине. А оказалось, что все дело в любви. Об этой любви довольно красочно и подробно и рассказывал всю дорогу Ральф, пока мы по весенней распутице добирались до нужной деревни на старенькой «Ниве» моего отца. Немец смотрел на заброшенные деревеньки за окном, подпрыгивал на кочках, чертыхаясь и смеясь, и заверял меня, что за прошедшие годы тут ничего не изменилось, все те же избы и то же бездорожье. Я, двадцатилетняя студентка, злилась, думая о том, что он здесь гулял с автоматом, а теперь выхоленный и довольный весело смеется, путешествуя по нашей разоренной в очередной раз стране. Я нажимала на газ и старалась скорее добраться до места. В моей семье война унесла всех братьев, мужа и отца моей прабабушки по маминой линии и забрала всех членов большого семейства по линии отца в блокадном Ленинграде, кроме прадеда, чудом оставшегося в живых. Эти мысли мешали мне слушать воспоминания немца и совершенствовать свой немецкий. Но оказалось, что мы с немцами очень похожи при всех наших режущих глаз различиях, так страстно описанных классиками. Немцы тоже очень сентиментальны и свято хранят в душе далекие воспоминания.
Так вот юный Ральф много-много лет назад был влюблен в девушку Лиду из русской деревни, где стояла немецкая часть, и он пронес это чувство через всю свою длинную жизнь. И когда умерла его фрау, он задумал отыскать свою первую любовь и, возможно, провести с ней остаток дней. Ральфу удалось довольно быстро ее найти, поскольку она прожила в этой деревне всю жизнь, никуда не выезжая. А свою дочь от Ральфа Лида отдала в детский дом, когда в сентябре сорок третьего пришла Красная армия. В те времена иного выхода у нее, вероятно, не было. Ральф при отступлении клялся, что вернется за ней и дочерью. Правда, в это Лида не очень-то верила. Это я узнала уже от нее через несколько часов. Но жизнь не стояла на месте, и Лида в конце концов вышла замуж, родила троих детей и доживала век, уже не думая, что увидит снова свою запретную и постыдную юношескую любовь, так неожиданно вспыхнувшую среди боли, крови и ужасов войны.
Это странное свойство любви рождаться там, где, казалось бы, есть место только страху и ненависти, поразило меня в этой истории больше всего. А еще больше до слез меня поразило, что красавица Лида, о которой с воодушевлением рассказывал мне Ральф всю дорогу, превратилась в подслеповатую, беззубую, сгорбленную работой старушку со скрюченными пальцами. Она встретила нас в старых валенках, в темном выцветшем платке на совершенно седой голове. Эта женщина, прожившая трудную жизнь, была на два года младше Ральфа, но рядом с ним, добротно и модно одетым, ухоженным и сверкающим голливудской улыбкой, выглядела на двадцать лет старше. Они казались людьми разных поколений, даже разных миров. И наш мир сильно проигрывал. Впечатление было таким сильным, что у меня затряслись руки и стал срываться голос. Когда мы ехали назад, Ральф уже не развлекал меня историями времен своей молодости, он молчал. За всю дорогу он произнес совсем тихо только одну фразу, как будто говорил самому себе: «А ведь какая красавица была, редкая красавица». А я только радовалась этому возникшему молчанию. Мне вдруг стало стыдно за все: за наших нищих стариков, за необработанные поля, за торчавшие вдоль дороги остовы ферм, за заросшие травой воинские кладбища возле умерших деревень. Тогда я не понимала, что во всем этом виноваты не только мы, а в большей степени те, кто развалил и ограбил нашу огромную страну. Только теперь это сделали даже без войны, хитростью и подлостью, используя нашу наивность и доверчивость.
Все эти нахлынувшие воспоминания прервал болезненный голос Ральфа в телефонной трубке, и я вернулась в сегодняшний день.
– У меня к вам просьба, Милена. Конечно, если это возможно, сопровождать сына моего боевого друга, Вернера, к месту гибели отца, – Ральф сделал паузу, собираясь с силами для следующей фразы. – Я совсем стар и болен, сижу в инвалидной коляске, не могу поехать с ним. Помните, я показывал свое фото с лучшим другом времен войны возле необычной лирообразной березы. Там недалеко было кладбище. Правда, я ходил туда с Лидой без вас. Отто где-то там и похоронен на Смоленской земле, могилы время уже сравняло с землей. Если вы сможете выкроить три дня, когда вам будет удобно, то Вернер приедет. Оплата – двести евро в день плюс расходы. Ну, так поможете, найдете для него три дня в ближайшее время или посоветуете кого-то из коллег?
– Думаю, смогу. У меня сейчас как раз есть такая возможность. Ваш знакомый может выезжать хоть завтра.
– Отлично. Он здесь рядом и говорит, что будет в Смоленске через два дня.
Обменявшись мобильными номерами и коротко переговорив с Вернером, я начала готовиться к встрече, радуясь возможности заработать хоть какие-то деньги в ожидании постоянной работы.
Итак, через пару дней я встретила на вокзале довольно моложавого немца лет восьмидесяти, который никогда не видел своего отца и хотел поклониться его праху на нашей земле, где тот погиб в далеком тысяча девятьсот сорок третьем.
На внедорожнике моей подруги, так как моя машина после прошедших недавно обильных дождей в той местности была бесполезна, мы отправились в уже известную мне по прошлой поездке деревню.
Лирообразную березу, на фоне которой был сделан снимок двух солдат вермахта много лет назад, мы искали недолго. Она по-прежнему росла на невысоком холме недалеко от деревни, но тоже изменилась: стала дряхлой и дуплистой, с множеством сухих веток в поредевшей позолоченной осенью кроне, вся в грибных наростах на старом массивном теле. Дерево мы нашли без труда, а вот где было немецкое кладбище с давно сгнившими деревянными крестами, понять не могли. Мы долго смотрели на фотографию, как будто пытались найти подсказку. Я отметила, изучая любовно отреставрированный с помощью цифровых технологий снимок, что даже постаревший Вернер очень похож на своего отца. Позвонили Ральфу, но он тоже не смог ничем помочь, называя нам ориентиры, которые исчезли за последние годы. Тогда решили поехать в деревню и попросить помощи у кого-то из старожилов. Подходя к машине, оставленной на деревенской улице, мы встретили совсем старенькую женщину, тащившую за собой упрямую белую козу. Коза сразу же постаралась сбежать, как только старушка переключила свое внимание с нее на незнакомых людей.
Старушка внимательно посмотрела на нас, потом неожиданно подошла к Вернеру и сказала: «А я тебя знаю, ты в войну у нас в деревне был. Ты меня еще шоколадкой угостил, когда я плакала у крыльца. Я тебя хорошо запомнила. Ты и Ральф мать Лидкину спасли, принесли ей лекарство, когда она от воспаления легких помирала. Лидка об этом всю жизнь вспоминала». Вернер ничего не понял и повернулся ко мне. Тогда бабушка стала разговаривать с ним громче, почти переходя на крик: «Ты всегда с Лидкиным Ральфом ходил. А я еще совсем девчонкой была. Померла уж давно Лидка. А Ральф-то жив? Тоже приезжал сюда годков пятнадцать назад».
Почему-то люди, видя, что их язык не понимают, пытаются докричаться до собеседника в полной уверенности, что громкие-то звуки обязательно будут поняты. Понаблюдав за этим явлением в очередной раз, я заверила старушку, что перед ней сын Отто, то есть того человека, о котором она говорит, а Ральф жив, но очень болен.
– Надо же, совсем я старая стала. Этот-то молодой, а тому уж сейчас к ста годам должно. Мне-то тогда лет девять было, а ему, почитай, лет двадцать.
– Да ему и сейчас двадцать, он похоронен здесь на немецком кладбище. Разве не слышали?
Старушка всплеснула руками.
– Точно. А я запамятовала совсем. Уж очень сын-то отца напоминает, да еще и Ральф приезжал, вот в голове все у меня и перепуталось.
– А вы не покажите нам, где находилось это немецкое кладбище?
– Покажу. Только пойдемте сначала в хату. Я вас кваском угощу, жарко сегодня, хоть и август на исходе. Да и козу привяжу возле дома. Это черт, а не коза. Постоянно ее, окаянную, искать надо, сбегает. Только потому и держу, что младшая внучка родила двойню и постоянно приезжает с малышами. А так мне одной хозяйство это уже совсем не под силу. Вот внучка с мужем помогают с огородом, сеном, сарайчик новый построили.
Я передала Вернеру наш разговор. Он очень обрадовался, что старушка видела его отца и можно будет поговорить с ней. Мы познакомились и пошли за Зинаидой Михайловной к дому, беседуя о далеких днях ее непростого военного детства.
– Ну вот и пришли, заходите в хату, – пригласила нас бабушка, открывая калитку во двор. – Дом-то еще довоенный, моим отцом срубленный. В нем немцы стояли, а мы в бане жили. Скажи этому-то, – махнула рукой в сторону Вернера Зинаида Михайловна. – Сюда и его отец с Ральфом часто заходили, потому как в нашей хате их начальник жил, очень злой и страшный, как мне тогда казалось. Уж натерпелись мы с матерью от него. Но в нашей деревне как-то поспокойнее было, а что вокруг-то творилось, не приведи, Господи! Столько горя, крови и боли, что и вспоминать-то страшно.
Услышав, что в этом доме бывал его отец, Вернер остановился. Он погладил старые стены с облупившейся коричневой краской, внимательно посмотрел в маленькие оконца, как будто надеясь увидеть в них промелькнувшую фигуру отца.
Мы выпили настоящего хлебного кваса. Вернер, правда, посмотрел на напиток несколько настороженно, но узнав, что это старинный русский рецепт и в войну его здесь все пили, решился на эксперимент. Потом мы долго говорили о войне. Вот только за воспоминаниями и разговорами о русских и немцах не заметили, как за окном стало смеркаться.
Зинаида Михайловна встрепенулась:
– Ой, козу подоить надо и ужин готовить пора. Давайте-ка на кладбище завтра пойдем. После захода солнца в таких местах делать нечего. Поужинаем, у меня в хате заночуете, а уж завтра поутру и отправимся.
– Спасибо за приглашение, Зинаида Михайловна. Не знаю, согласится ли Вернер. Скорее всего мы вернемся в гостиницу в Смоленск, а утром приедем.
– Да что ж туда-сюда ездить-то, до города два с лишним часа добираться. А Вернеру небось интересно в русской хате переночевать, в похожей и его отец жил. А у меня-то кроватей хватает, все дети и внуки в городе живут, но каждые выходные кто-нибудь приезжает.
Вернер приглашение принял сразу без колебаний и сомнений и, как мне показалось, не без удовольствия. Для него все происходящее было погружением в историю жизни своего отца, а он для этого сюда и приехал.
– Ты, Людочка, давай картошку почисти, а я пока козу подою. У меня грибочки жареные есть, огурчики соленые и бутылочка найдется. Сейчас картошечки нажарим, омлет сделаем из домашних яиц и еще поговорим за столом.
– Хорошо. Вернер спрашивает, сколько мы вам должны за ужин и ночлег.
– Ты ему скажи, что у меня все от души, не для денег. Я тоже без отца осталась после войны, мне ли его не понять.
Пока мы хлопотали по хозяйству, Вернер рассматривал старую икону и огромную русскую печь, которая его чрезвычайно заинтересовала. Увидев его внимание, старушка принялась расхваливать наше национальное многофункциональное изобретение.
– Вот сейчас как занеможется мне, или кости ныть начнут, так я спать на вытопленную печь, – она-то до утра тепло держит. И утром встаю как новая, без всяких тебе лекарств. А что хлеб в печи испеченный, каша или щи – это ж разве сравнить: и вкус иной, и польза иная. Немцы-то как простывали в нашем климате, так на печи и лечились. Тоже уважали русскую-то печь.
Сфотографировав печь со всех сторон, а заодно и убранство старого дома, Вернер начал расспрашивать о немецких захоронениях.
– Садитесь за стол, сейчас все расскажу, – пригласила Зинаида Михайловна.
На столе уже стояли картошка, омлет, жареные грибы в сметане и соленья, распространяя ароматы свежеприготовленной пищи. Через минуту среди тарелок появилась и запотевшая бутылка клюквенной наливки.
Вернер попросил разрешение сфотографировать и угощение. Не получив отказа, он сделал пару снимков и, наконец, сел. Зинаида Михайловна на правах хозяйки разлила наливку по рюмкам и сказала тост:
– Вспомянем тех, кто погиб в этой войне. Царствие им Небесное! Ох и много же народу полегло, – старушка со вздохом перекрестилась. – Вот как раз в это-то время, в начале осени сорок третьего, тут страшные бои были, и немцы отступали.
Я перевела ее слова, и все молча выпили. Наливка оказалась душистой и вкуснейшей. Вернер похвалил напиток и спросил о его происхождении, поскольку на бутылке красовалась узнаваемая этикетка французского коньяка.
– Так это зять у меня сам наливки делает, – объяснила старушка. – Здесь клюква, мед и водка – одно лекарство.
Отдав должное наливке и всему стоявшему на столе, мы начали говорить о немецких захоронениях.
– А где точно находится это кладбище? – спрашивала я.
– Ой, Людочка, пока могил было немного, аккурат напротив березы находилось. Перед березой стань спиной к деревне – и вот перед тобой их кладбище. Как сейчас вижу те одинаковые кресты на ровных рядах могил. Только там Отто нет, его уже в братских могилах искать надо, – объяснила Зинаида Михайловна, посмотрев на Вернера.
– Что еще за братские могилы? Где это? – спросила я, едва переведя последнее предложение.
– Да там все рядом. Как сражение-то Смоленское началось, тут уж они справа на старом дореволюционном кладбище возле развалин часовни хоронили, там камни этой часовни и по сей день видны. Часовня-то разрушена была после революции, тогда же и кладбище господское разорили. К войне от него мало что оставалось, ну а когда обстрел артиллерийский в сорок третьем по тем местам провели, там на холме пушки немецкие стояли, то и вовсе все смешалось – сплошные воронки везде. Вот в эти-то ямы и сваливали трупы: сначала немцы, поспешно отступая, а потом и наши, тоже не успевая хоронить, как положено. Да часто и хоронить было нечего: куски мяса, руки, ноги, кости из старых могил. Да и то не поймешь чьи: и немецкие, и русские разных времен. Вот так-то все в общих ямах и оказались. И ведомо поэтому, так люди говорят, каждый год на исходе лета, когда в сорок третьем было это сражение, там на кладбище по ночам битва между призраками идет. Никак не успокоятся их души.
Старушка перекрестилась, следя за реакцией Вернера, пока я переводила ему ее слова. Вернер удивленно поднял брови, вероятно, не поверив в этот фантастический рассказ. Я же решила поинтересоваться:
– А почему же не отслужили там молебен? Считается, что в таких случаях помогает.
– Как же, было. Вот только не помогло.
– Почему не помогло?
– Я так думаю, что батюшка был ненастоящий.
– Как это?
– Да отец Сергий служил, из бывших областных комсомольских работников. Он с моей младшей дочерью в институте учился вместе. Они его всегда не любили, предателем в группе звали. Дрянь человек. Когда комсомольская карьера в девяностые не получилась, он себе другую решил сделать – духовную, монахом сделался. Вот только везде врет, все у него не от души, так его слова до Бога-то и не доходят.
– А что, других-то священников нет?
– Как не бывать? Есть, конечно. Вон в соседнем-то селе церковь восстановили. Там отец Александр, человек большой души и истинной православной веры. Говорит, что его задача – восстановить хотя бы одну русскую деревню. Своих детишек шестеро, да еще и все деревенские дети из пьющих семей за столом сидят. Они с матушкой всем помогают с уроками, подкармливают, воспитывают, а то и обувают и одевают. Все на себя взвалили, дай им, Господь, здоровья. В деревне-то работы нет, хозяйство разрушено. Люди попереезжали или вот пьют, а ребята, почитай, беспризорниками были бы, кабы не отец Александр.
– Так почему же отца Александра не попросили молебен отслужить?
– Ой, детка, да кому ж просить? Сейчас в нашей деревне и людей-то почти нет, разве что дачники летом, а раньше обо всем этом говорили только шепотом.
Опустив некоторые моменты, я перевела разговор Вернеру. Он задумался, но ничего мне не сказал.
Поговорив еще немного, мы улеглись спать. Я быстро уснула, но уже через час меня разбудила громко хлопнувшая дверь. Еще не понимая спросонья, что я делаю, быстро натянула джинсы и свитер и выскользнула из дома. На освещенной лунным светом дороге впереди маячила высокая фигура Вернера. Он быстро двигался по направлению к кладбищу. Сначала я хотела его догнать, потом решила вернуться, поскольку гулять по ночам среди могил не представлялось мне соблазнительным времяпрепровождением. Но, уже сделав несколько шагов назад к дому, я обозвала себя суеверной трусихой и повернула. Любопытство взяло верх, и я пошла за немцем, держась на некотором расстоянии и не пытаясь сообщить ему о своем присутствии. На холме я наступила на развязавшийся шнурок и упала, ударившись головой о большой камень разрушенной часовни. Когда звон в моей голове стих, я услышала вопрос, заданный по-французски скрипучим старческим голосом:
– А что, Лизоньку уже представили ко двору?
– Не знаю. А я умерла? – испуганно прошептала я тоже по-французски, удивленно оглядываясь.
Мне показалось, что я нахожусь в каком-то огромном зале.
– Что вы такое говорите?! Мы здесь все живы, – ответил мне аккуратный скелет с белой кофейной чашкой в руке.
Ответ меня не очень-то успокоил, поскольку вся окружающая обстановка говорила как раз об обратном. Я находилась в большом темном помещении с многочисленными чайными столиками, за которыми сидели скелеты и чинно пили кофе. Они осторожно подносили маленькие чашечки ко рту, а затем неторопливо ставили их на блюдца. Вид у них был вылощенный и даже торжественный, если так можно сказать о скелетах. Но постепенно я начала различать платья, шляпы, сюртуки и даже лица, хотя по-прежнему чувствовала себя тут совершенно лишней.
– Но как же я здесь? – не успокаивалась я. – Мне спросить можно?
– Почему же не поговорить с хорошим человеком? Спрашивайте, – милостиво разрешила молодая дама в широкополой шляпе, сидящая за ближайшим столиком. Дама была красива, с царственной осанкой и такими же манерами.
– Вернер может повидать своего отца и поговорить с ним? – робко поинтересовалась я.
– Ну что ж, все законы соблюдены, – кивнула головой дама. – Вы просите не для себя и без корысти, а посему – разрешаем, – неожиданно громко закончила она.
И в тот же миг столики, чашки, дамы и кавалеры начали таять в зыбком воздухе, а на их месте появились другие скелеты – без внешнего лоска, нередко и без конечностей. Постепенно они превратились в солдат и офицеров, одетых в немецкую и советскую форму времен Великой Отечественной войны. Но эти погибшие не собирались мирно беседовать и пить кофе. Нет. Как только стали различимы лица, они исказились ненавистью, и началась битва, которая длилась уже много лет. Выстрелы, крики и взрывы меня почти оглушили. Но среди этого адского шума я все же услышала голос Вернера.
– Отец! Отец! – звал он.
И смолкло все, и исчезло все. Остался только немецкий солдат с молодым лицом Вернера, придерживающий раненую руку, а на его груди расползлось большое темное пятно. Перед ним каким-то непостижимым образом появился и сам Вернер. Они стояли и смотрели друг на друга. Меня эти двое не замечали. А может, меня там и не было?
– Я все-таки нашел тебя, отец, – Вернер сделал шаг к Отто, протягивая руки.
– Это ты, Вернер? – солдат поправил одежду, как будто не желая выглядеть неряшливо перед сыном. – Не удивляйся моему вопросу. Там, где я сейчас, нет прошлого, настоящего или будущего, нет направления времени в обычном понимании. И ты, как песок сквозь пальцы, течешь среди событий своих прошлых и будущих жизней, пересматривая и анализируя их постоянно. И ты уже не можешь понять, когда это было, а может быть, только будет. А в каких-то своих действиях ты застреваешь снова и снова, как в этой битве, в которой я погиб молодым и сильным на чужой земле, так и не увидев своего сына, не научив его самому главному – тому, что так неожиданно понял сам.
– Что ты понял, отец?
– Я понял, что такое душа, дух и совесть народа.
– Это так важно?
– Да, это объясняет всю земную жизнь. Вот немцы стараются жить честно и по закону, а русские по справедливости и велению души. И если объединить эти два несовместимых на первый взгляд народа, то можно построить справедливый мир для всех. Но мы всегда воюем. Нас всегда заставляют воевать. И мы никак не можем это прекратить.
– Сейчас мы не воюем, отец. Это битва прошлого.
– Сейчас. Прошлое. Будущее. Я забыл, что это такое. Я застрял в войне с русскими, душу и дух которых я понял. Поэтому мне стало невыносимо воевать. А уже была генетическая война?
– Генетическая? Будет такая война?
– Я не могу отвечать, и даже если отвечу, ты не услышишь. Прощай, мне пора.
– Прощай. Я привез тебе землю с могилы матери.
– Высыпь ее в углубление справа от развалин часовни.
Я очнулась лежащей на земле от встревоженного голоса Вернера, который тряс меня за плечи:
– Милена, очнитесь. Милена.
Я приподняла голову, вспоминая, что произошло.
– Я в порядке, не беспокойтесь, – заверила я Вернера, ощупывая свою голову.
– Вы можете идти?
– Конечно. Все хорошо, вот только голова… Набила себе шишку, споткнувшись.
– Идемте… Вам надо поскорее лечь в постель.
– Да, лечь в постель мне просто необходимо.
Мы молча шли к деревне, не оглядываясь и не говоря друг другу больше ни слова, как будто наложили вето на вопросы и разговоры о кладбище. Огромная позолоченная луна освещала нам путь, и в ее свете Вернер выглядел намного моложе, как будто не он, а его вечно юный отец шел сейчас рядом со мной. Он даже так же поддерживал руку, а на его груди темнело пятно. Я вздрогнула, стараясь отогнать свои видения, но они продолжились.
– Благодарю, – прошептал призрак, сияя глазами.
– За что? – я зажмурилась, пугаясь этого сияния и стараясь успокоить себя, что этот призрак – последствие моего падения.
– От всех нас благодарю, – продолжил он, игнорируя мой вопрос.
Я заставила себя посмотреть на Вернера, который шел, погруженный в свои мысли, не разговаривая и не сверкая очами. Но в какой-то миг его тень раздвоилась, а потом все снова стало как обычно.
В доме я упала на кровать и тут же уснула мертвым сном, несмотря на сильную головную боль.
Утром мы поехали за отцом Александром. В церкви я долго молилась, а потом попросила батюшку отслужить поминальный молебен на старом кладбище, объяснив ему, кто такой Вернер и зачем мы приехали сюда. Вернер скупил все имеющиеся в церкви свечи, которые полностью заняли заднее сиденье нашего автомобиля. Отец Александр не удивился и ни о чем не стал расспрашивать. Он собрал и посадил в старый школьный автобус деревенских детей с букетами цветов, предварительно объяснив им, куда и зачем мы едем. Матушка сделала большой и очень красивый букет для Вернера, и мы отправились к развалинам часовни. Мы расставили зажженные свечи на местах предполагаемых братских могил, на каждом бугорке и в каждой найденной ямке, перед березой, где были когда-то ровные ряды немецких могил, и на фундаменте разрушенной часовни. Все поле покрылось огоньками и яркими шапками георгинов. Вернер высыпал из мешочка землю справа от часовни в хорошо заметную лунку и туда же поставил большую свечу, которую привез из Германии, рядом положил цветы. Я посмотрела на него и до конца удостоверилась, что в прошедшую ночь он тоже разговаривал с призраками.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе