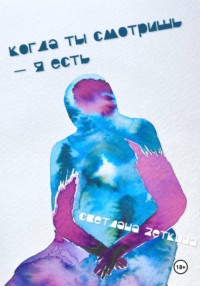Читать книгу: «Когда ты смотришь – я есть»
Предисловие
– Здравствуйте, вы Светлана?
– Да, я на 16 записана.
– Хорошо, проходите, через 10 минут Екатерина вас пригласит.
Я медленно прошла к огромному книжному шкафу, где стоял пуфик. Сев на пуфик, я от волнения начала впиваться глазами в книги, стоящие в шкафу. Бросилась в глаза томик «Игры, в которые играют люди…».
Мне было 18 лет.
Я пришла впервые на прием к психотерапевту. Как сейчас помню – уютный ресепшн психологического центра в светло-зеленых тонах, я немного волнуюсь, как перед приемом у врача.
Оборачиваясь назад, я ужасаюсь – что может заставить 18-летнего, по сути, ещё ребенка идти к психотерапевту, причем в срочном формате?
Это было не ради развлечения. Накануне этого дня мне приснился сон.
В нем жуткие люди без лиц меня буквально силой тащили куда-то и заставляли трудиться, унижали, били и издевались. Я падала от усталости и волочилась по земле, но бесчувственному окружению не было дела. Я чувствовала колоссальную тяжесть, несвободу и страдания, несопоставимые с желанием жить. В конечном итоге, меня с какими-то другими людьми повели на казнь и мне ярко запомнилось чувство счастья, которое я испытала, когда поняла, что вот-вот эти страдания кончатся, я умру и больше не буду страдать. С этим незнакомым противоречивым чувством облегчения и слезами на глазах, я проснулась в постели и не смогла уснуть до самого утра от страха и ужаса, который меня охватил от этого сна.
С этого момента и начался мой путь длиной в 10 лет. Путь болезненный и не похожий на беззаботную юность, которую рисовали в соцсетях и модных пабликах того времени.
10 лет, во время которых я не раз сваливалась в глубокую депрессию, а потом «ловила» маниакальную волну, и в кураже всесильности ввязывалась в убыточные проекты, вкладывалась в сомнительные затеи и начинала разрушающие меня до основания отношения.
Тогда я не могла понять, почему это всё происходит. Жизнь неслась с оглушительной скоростью… Или же я её пыталась разогнать настолько, чтобы не чувствовать звенящую пустоту в своей груди?
Знакомо?
Да, я убеждена, что публикую книгу, которая относится ко многим людям даже больше, чем они сами того признают. И всё же, я хочу попробовать. Честно и искренне приоткрыть вам путь из 10 лет отчаянного поиска собственного отражения, попыток слиться и одновременно сепарироваться, попыток выбраться из того вакуума, который я ощущала в моменты, когда вокруг меня смолкали голоса.
Я надеюсь, что по прочтении этой книги у вас не останется сомнений о том, что нарциссическое расстройство личности (НРЛ) приносит людям большое количество страданий, о которых вы можете даже не догадываться.
Это книга-саморефлексия и самопозволение, в какой-то мере. Здесь я попробую справиться с навязчивым желанием сделать «красиво» – и, если я справлюсь и опубликую это, значит 10 лет прошли не зря.
Пусть неидеальность этой, моей первой опубликованной литературной работы, будет подтверждением того, что глубокая травма, внутренняя пустота и неспособность быть в контакте с собой могут хотя бы на 1% быть преодолены.
Любовь и неидеальность – истинные признаки исцеления, и это самое важное, что я хочу дать этому миру через эту книгу.
Огромная благодарность моим близким, психотерапевту, партнёру и всем людям, кто случайно или сознательно влиял на мой путь – всё это двигало меня к точке, из которой я сейчас могу говорить с вами, читателями, настолько открыто.
Глава 1. Пандемия нелюбви
«Нарцисс – это ребёнок, которого использовали».
Психоаналитик Стивен Джонсон
Однажды я поняла, что есть болезнь, способная заставить не чувствовать любовь. Никогда и ни к кому. И вот неожиданность, она передаётся по наследству. В основном, от матери к детям.
Прямо сейчас – пандемия этой болезни. Болезни, уничтожающей такое чувство, как любовь. С самого детства дети во многих семьях начинают получать потребительское отношение к себе. Начинают копировать и наследовать его. Вырастают и несут его в свои новосозданные семьи. И всё по кругу. В семьях наблюдаются две расщепляющие мир ребенка тенденции: тотального и эмоционально-давящего контроля и глубочайшего ледяного равнодушия.
Все семьи начинают походить на обрывки одной книги. Они вроде похожи, и о чем-то об одном. Только не понятно – о чём.
Примерно так и появились мы – «облегчённые», социально-адаптированные версии нарциссов. И если вы думаете, что социальная адаптация – это защита от внутренних страданий, то нет. Это промежуточное состояние аналогично изнуряет человека, но у такого нарцисса хорошо развиты механизмы вытеснения и контроля.
То есть те же самые страдания, но хорошо сокрытые от общества – ещё более защищённые, невозможные к обнажению и исцелению болезненные чувства.
Что у меня было всегда в анамнезе:
●
ощущала невосполнимую пустоту внутри себя, которую могла временно наполнить только грандиозная победа, которая никак не наступает, а простые человеческие радости не утешают и увеличивают бессмысленность и глубину отчаяния;
●
всё оценивала – постоянно идеализировала или обесценивала людей, события, свои и чужие поступки;
●
колебалась от состояния полного совершенства до полного ничтожества в неадекватной амплитуде и беспощадной частоте.
Основной страх – столкновение со своей незначимостью, ничтожностью.
В противоположность внутреннему аду, который создается на основе этих черт, общество не только не пропагандирует эти качества, но даже наоборот. Культурно закладывается социальное поощрение нарциссических черт. Я часто слышала, как некоторые мои истинно-нарциссические черты вызывали уважение и социальное одобрение. За них люди меня подбадривали и желали не терять мне этих качеств. Зато попытки проживать болезненных эмоций, которые принято считать «негативными» (страха, гнева, печали, скорби, апатии) зачастую вызывало открытое отвращение или снисходительное избегание.
Я знаю, что многие, как и я, живут в этой двойной игре: когда ты не можешь быть с другими самим собой, а с собой не можешь быть как с другими. С ними – ты всегда грандиозен. С собой – ты всегда ничтожество. Или наоборот. Но суть не меняется. Ты всегда в двух параллельных выдуманных реальностях. И самое страшное – тебя нет ни в одной из них.
Социальная адаптация упрощает жизнь, но усложняет путь к исцелению. Я не знаю, будет ли хэппи-энд у этой истории.
Все случаи индивидуальны. Моя история может быть отлична от терапии другого клиента с аналогичными исходными. Я могу описать только тот путь, который прохожу я.
Во всех случаях есть те, кому очень больно – близким людям. Мне кажется важным описать то, как влияет это расстройство на личность человека, на его поведение. Как это видоизменяет его логику взаимодействия с другими людьми. Не надо подвергать себя страданиям. Но если у вас точно есть силы понимать и вы осознанно хотите понять – эта книга может стать поддержкой для вас.
В следующих главах я буду рассказывать истории, приводить примеры, параллельно дополняя вставками, которые помогли мне в свое время в интерпретации тех или иных состояний и этапов исцеления, а также дневниковыми и саморефлексивными записями и конспектами практик, которые были накоплены за 10 лет этого путешествия.
Глава 2. Должна быть лучше, но всегда недостаточно хороша
Там, где здоровый взрослый человек определяет себя внутри параметров, на которые влияет он сам, то нарцисс определяет себя внутри тех параметров, на которые он не влияет. В детстве он ориентировался на мир значимого взрослого, как и все. Значимый взрослый, дающий необходимый эмоциональный контакт, научил бы его ориентироваться на собственную систему координат, помог бы её выстроить и сделать её надёжной и безопасной. Значимый взрослый служил бы ему правильным зеркалом, через которое он начинал бы видеть свои возможности и ограничения такими, какие они есть. Человек узнаёт себя через другого.
В случае с НРЛ, ребенок видит искажённое зеркало, которое не даёт ему никаких надёжных представлений о себе, а подменяет их ожиданиями, надеждами и требованиями. Ребёнок видит не себя в зеркале, а проекцию взрослого в зеркале. И разлепить эти две сущности: себя и проекцию значимого взрослого – является основной задачей терапии нарциссической травмы.
В итоге, в этой системе координат проекцией являются не только конкретные потребности и ожидания, но и личность в целом, со всеми ее гранями. И только тогда, когда она вписывается в эту систему координат, она существует, она имеет объем. Все остальное время личность чувствует себя отвратительно – несущественной, ничтожной, неопределенной.
«Я себя не вижу» – это базовое состояние человека с НРЛ. Для того, чтобы ощутить себя существующим в пространстве и времени – хотя бы какие-то примерные очертания – нужна идентификация с требованиями и ожиданиями другой значимой фигуры. Естественно ни о какой аутентичности или реалистичной самоидентификации не идет речи. Психика уже сформировалась по другому пути – пути адаптации под требования и ожидания, а не самораскрытия и познания, эти процессы остановились в раннем детстве. Так запускается воронка созависимых отношений, про которую я расскажу в следующих главах.
Почему происходит застревание в отчаянной попытке занять место в координатах значимого взрослого?
0 лет. Вывод, сделанный подсознательно ребенком: «Мама радуется, если я тихо лежу и не мешаю ей. Она злится или расстраивается, когда я прошу о внимании или помощи».
Допустим, ребенок молчит и не мешает. С раннего возраста занимает удобную позицию по отношению к родителям. Но это не меняет их отношение. Просто смещается фокус на что-то ещё.
3 года. Мама: «Ты такая скромная, вот раскрепоститься бы тебе, подружиться с кем-нибудь, вон как Юленька, видела, какая она общительная и все успевает?».
После “общительности как у Юленьки” возникает “смелость, как у Васеньки”, “опрятность, как у Леночки”. Возникают странные, непонятные для детской психики парадоксы: даже если внешне ребенком якобы остаются довольны, у него остается чувство, что он до сих пор «недостаточен».
Так называемое “двойное послание” – основной инструмент нарциссической манипуляции.
8 лет. Мама: “Хорошо, конечно, что у тебя хотя бы есть друзья… но вот Лёва этот весь чумазый всегда и всё съедает, наверное, он из неблагополучной семьи… ты с ним поаккуратнее и домой его лучше не приводи”.
Послание начинается с одобрения, но в итоге в нем прекрасно считывается слабо-завуалированное обесценивание – и самого ребенка (хотя бы) и его выбора (этот). Двойной удар по самым важным зонам становления взрослой личности.
Суть в том, что двойные послания, по грустному стечению обстоятельств, выглядят как редкое проявление внимания на фоне обычного равнодушия к жизни ребенка, поэтому хорошо западают в душу и работают на общую цель – сбить ориентиры и прервать формирование идентичности. У родителя свои неосознаваемые цели – контроль, опека, влияние. Родитель в таких отношениях, зачастую, такой же травмированный ребенок, ведущий свою ежеминутную подсознательную борьбу за значимость – даже в отношениях с уже своим собственным ребенком.
В отношениях с такими взрослыми нет близости: у маленького человека почти не спрашивают:
Как ты этого достиг/как ты подружился?
Нравится ли тебе это занятие/человек?
Почему тебе это было важно?
Что бы ты хотел дальше делать в этом направлении?
Открытых вопросов, исследовательского интереса к личности нет (“добился и добился, дружит и дружит”), но есть новые ожидания.
Сигнал для ребенка: расслабляться нельзя. Нужно стараться ещё больше. И продолжая стараться завоевать любовь, человек так и остается в не своей системе координат, застревая в ней и продолжая по привычке существовать в ней всю жизнь, даже если тот значимый взрослый уже давно не рядом и даже неизвестно, как бы он отреагировал теперь. Это уже не имеет значения. Значение имеет только ранний опыт, а он формирует постоянное стремление завоевать любовь.
Травма диктует заниматься этим всю жизнь. Как на повторе. И она же запускает механизм перепроживания опыта, помещая нас в те ситуации, которые напоминают нам ту систему, из которой мы вышли. Те же самые “требовательные” близкие. Те же самые “закрытые” отношения. Та же самая пожизненная ноша в виде “недостаточности”.
Итак, квинтэссенцию двойного нарциссического послания можно сформулировать так:
Ты должен стать лучше.
Но ты никогда не будешь достаточно хорош.
И получая это послание в детстве, мы не можем освободиться от него всю жизнь.
Выход:
Единственный путь по отношению к двойным посланиям и ледяному равнодушию к себе, которому нас научили в детстве – это в терапевтических отношениях получать опыт устойчивых, понятных отношений, где в ваших чувствах и мыслях действительно заинтересованы. Что это значит на практике?
Это когда вам задают открытые вопросы, дают пространство для “выговориться”, выгрузиться”, принимают безоценочно ваш опыт и чувства.
Постепенно это перенастраивает внутреннюю систему координат – человек начинает быть объёмным и реальным не только в системе координат значимого взрослого, но и в своей собственной, новообретаемой системе. Происходит развитие идентичности, формирование собственного отношения к разным вопросам и принятие этого отношения как допустимого. Меняется характер отношений с людьми – начинает превалировать выбор отношений, где слушают и слышат. Двойные послания исчезают из собственной речи – получается быть прямее и честнее с людьми.
Будучи заложниками двойных посланий в детстве, мы всегда будем сомневаться в своем выборе, искать подвох, ощущать недостаточность. Важно проживать это горе, какое бы невыносимое оно не казалась, терапевт сможет подставить плечо и выдержать его вместе с вами.
В дуальном месте, например, где чувствуется и гордость, и самообесценивание, нужно дать место и время обоим чувствам. Разрозненные кусочки начнут скрепляться и постепенно будет формироваться наблюдающее эго, способное видеть картину целостной.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе