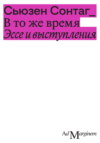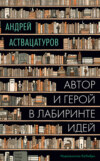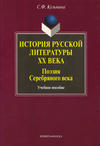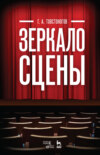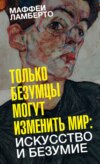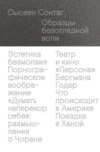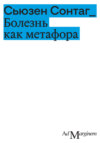Читать книгу: «В то же время. Эссе и выступления», страница 3
В Лете в Бадене поток лихорадочных ассоциаций через воспоминания, описания и реконструкции формирует несколько «настоящих» миров. Оригинальность романа Цыпкина в движении между реальностью неназванного рассказчика в его поездке по блеклым пейзажам Советского Союза и странствиями Достоевских. На фоне культурной разрухи современности прошлое сияет живительным светом. По пути в Ленинград Цыпкин путешествует внутрь душ и тел Феди и Анны. Мы встречаем поразительные, почти сверхъестественные проявления эмпатии.
Цыпкин пробудет в Ленинграде несколько дней; это одинокое (как и всегда) паломничество по достоевским местам (явно не первое), которое закончится в доме, где Достоевский умер. Нищие Достоевские только начинают свое скитание по Западной Европе; они проведут там четыре года. (Стоит напомнить, что автору Лета в Бадене ни разу не разрешили выехать за пределы СССР.) Дрезден, Баден, Базель, Франкфурт, Париж – семейство не знает покоя от денежных невзгод и бесконечных унизительных стычек с наглыми иностранцами (швейцарами, кучерами, квартирохозяйками, официантами, продавцами, ростовщиками, крупье), не знает покоя от собственных причуд и бурных эмоции. Жар азарта. Жар морали. Жар болезни. Жар чувственности. Жар ревности. Жар покаяния. Страх…
Главная страсть в воссозданной Цыпкиным жизни Достоевского – не азарт, не писательство, не Христос. Это испепеляющий – хоть и не равноценный счастью – бескорыстный абсолют супружеской любви. Как забыть эту метафору соития как «плаванья»? Всепрощающая, благородная любовь Анны к Феде созвучна любви апостола литературы, Цыпкина к Достоевскому.
Ничто не выдумано, и выдумано всё. Структуру повествования образует поездка рассказчика по местам жизни и действия романов Достоевского, куда он отправился (как мы постепенно понимаем), готовясь к написанию книги, которую мы держим в руках. Лето в Бадене принадлежит к редкому и изысканно амбициозному поджанру романа: изложении жизни реального выдающегося человека из другой эпохи, который автор переплетает с историей в настоящем времени, вдумчиво, дотошно пытаясь нащупать путь к внутреннему миру человека, чья судьба обрела не просто историческое, но монументальное значение. (Другой пример такого жанра и одно из величайших произведений итальянской литературы ХХ века – Артемизия Анны Банти.)
На первой странице Цыпкин покидает Москву и через две трети романа приезжает на Московский вокзал в Ленинграде. Он знает, что рядом с вокзалом находится «обычный серый петербургский дом», где Достоевский провел последние годы своей жизни, но идет со своим чемоданом дальше, в ледяной угрюмый сумрак через Невский проспект, мимо прочих мест, где Достоевский бывал на закате жизни, и приходит туда, где всегда ночует в Ленинграде – в обшарпанную коммунальную квартиру к любовно описанной подруге своей матери, которая встречает, кормит его, стелет ему продавленную кушетку и спрашивает, как всегда: «Ты всё еще увлекаешься Достоевским?» Когда она ложится, Цыпкин достает с книжной полки случайный том дореволюционного собрания сочинений Достоевского – Дневник писателя – и, погружаясь в сон, размышляет о загадке антисемитизма его автора.
После утреннего разговора с приветливой хозяйкой и нескольких ее историй про ужасы блокады, Цыпкин выходит из дома – короткий зимний день уже близится к закату – и отправляется бродить по городу, «фотографируя „дом Раскольникова“, или „дом старухи процентщицы“, или „дом Сонечки“, или дома, в которых жил их автор, потому что именно здесь-то он и жил в самый темный и подпольный период своей жизни, в первые годы после возвращения из ссылки». «Ведомый каким-то внутренним чутьем», Цыпкин выходит «совершенно точно к нужному месту» – «сердце мое даже провалилось от радости и еще от какого-то другого, смутного чувства» – на другую сторону улицы от четырехэтажного дома, где Достоевский умер и где теперь находится его музей. Описание этого визита («почти церковная тишина стояла в помещениях музея») переходит в повествование о смерти, достойное пера Толстого. Цыпкин воссоздает долгие часы у смертного одра через глаза раздавленной горем Анны, в этой книге о любви, любви между супругами и любви к литературе – двух чувствах, которые нельзя сравнить или связать, но каждому отдается должное, каждое усиливает огонь другого.
Если ты любишь Достоевского, что тебе делать – что делать еврею – с фактом того, что он ненавидел евреев? Как объяснить ярый антисемитизм «человека, столь чувствительного в своих романах к страданиям людей, этого ревностного защитника униженных и оскорбленных»? И как понять причины «этого особого тяготения евреев к Достоевскому»?
Фигурой особой интеллектуальной мощи среди поклонников Достоевского еврейского происхождения был Леонид Гроссман (1888–1965), которого Цыпкин ставит первым в длинном списке подобных ему. На Гроссмана Цыпкин во многом опирается в жизнеописании Достоевского, и один из его трудов упоминает в начале Лета в Бадене. Именно Гроссман был редактором первого издания Воспоминаний Анны Достоевской, опубликованных в 1925 году, через семь лет после ее смерти. В них нет упоминаний «жидков» и прочих выражений, которые мы ожидали бы встретить в мемуарах вдовы Достоевского, и Цыпкин задумывается, не по той ли причине, что она писала их уже после знакомства с Гроссманом, на пороге революции.
Цыпкин, вероятно, был знаком со знаковыми трудами Гроссмана о Достоевском, включая Бальзака и Достоевского (1914) и Библиотеку Достоевского (1919). Возможно, он читал роман Гроссмана Рулетенбург (1932), пародию на повесть Достоевского о пристрастии к азартным играм. (Рулетенбург – первое название Игрока.) Однако он точно не читал Исповедь одного еврея (1924), копий которой на тот момент было не найти. Исповедь одного еврея – это рассказ о печальной судьбе одного из самых поразительных евреев – поклонников Достоевского, Авраама-Урии Ковнера (1842–1909), родом из вильнюсского гетто, с которым у Достоевского завязалась переписка. Ковнер, отчаянный самоучка, обожал писателя и, вдохновившись Преступлением и наказанием, совершил ограбление, чтобы помочь своей возлюбленной, нищей и больной женщине. В 1877 году, перед отправкой на четыре года на сибирскую каторгу, Ковнер написал Достоевскому из своей камеры в московской тюрьме, потребовав от него объяснения его неприязни к евреям. (Это было в первом письме; во втором он уже рассуждал о бессмертии души.)
В конце концов мучительный вопрос о природе антисемитизма Достоевского, который врывается в Лето в Бадене сразу по приезде Цыпкина в Ленинград, остается без ответа. «Мне казалось до неправдоподобия странным, – пишет он, – что человек <…> этот не нашел ни одного слова в защиту или в оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет <…> евреев он даже не называл народом, а именовал племенем <…> и к этому „племени“ принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы». И тем не менее евреи любили Достоевского. В чем же причина?
У Цыпкина нет другого объяснения, кроме как огромной любви евреев к русской литературе; тут мы можем вспомнить, что именно евреи громче всех воспевали Гёте и Шиллера в Германии – до тех пор, пока их не начали убивать. Любить Достоевского – значит любить литературу.
Лето в Бадене как краткий экскурс по величайшим темам русской литературы сшит воедино изобретательностью и темпом своего языка, который, как наваждение, дерзко скачет между первым и третьим лицом, – в поступках, воспоминаниях, размышлениях рассказчика («я») и в сценах жизни Достоевских («он», «они», «она»), – а также между прошлым и настоящим. Но настоящее не всегда одно и то же (рассказчика Цыпкина в его паломничестве по достоевским местам), как не едино и прошлое (в промежутке между 1867-м и 1881-м, годом смерти Достоевского). Достоевского, в его прошлом, захлестывают былые события и переживания; рассказчик возвращает в настоящее свое прошедшее.
Начало каждого абзаца означает начало нового долгого предложения, сочлененного бессчетными «и», редкими «но», «впрочем», «так что», «в то время как», «равно как», «потому что», «словно» и многочисленными тире, а точка ставится только в конце абзаца. В этих горячечно длинных предложениях-абзацах поток чувства то набухает, то несется потоком по жизням Цыпкина и Достоевского: предложение, которое началось рассказом о Феде и Ане в Дрездене, вдруг перебрасывает читателя в каторжные годы Достоевского или эпизод с одержимостью рулеткой во время романа с Полиной Сусловой, а затем перетекает в воспоминание рассказчика о студенческой поре и размышления о строках Пушкина.
Предложения Цыпкина вызывают ассоциацию с нескончаемыми пассажами Жозе Сарамаго, в которых диалог оборачивается описанием, а описание складывается в диалог, напичканный не желающими оставаться в одном и том же времени глаголами. Непрерывность предложений Цыпкина своей силой и сумбурной убедительностью напоминает и Томаса Бернхарда. Разумеется, Цыпкин не знал книг Сарамаго или Бернхарда. Его эталонами были другие образцы экстатичной прозы ХХ века. Он любил раннюю (но не позднюю) прозу Пастернака – Охранную грамоту, но не Доктора Живаго. Он любил Цветаеву. Он любил Рильке, отчасти потому что Цветаева и Пастернак любили Рильке; он читал очень мало зарубежной литературы и только в переводе. Из того, что он читал, больше всего он проникся Кафкой, с которым познакомился по сборнику рассказов, напечатанных в СССР в середине 1960-х. Удивительное предложение Цыпкина – это полностью его собственное изобретение.
В рассказах о своем отце сын Цыпкина описывает его как дотошного человека, одержимого чистотой. Размышляя, почему он выбрал именно такую медицинскую специальность – патологическую анатомию – и решительно не хотел работать лечащим врачом, невестка Цыпкина вспоминает, что «его всегда интересовала смерть». Быть может, только настолько зацикленный, помешанный на смерти ипохондрик, каким кажется Цыпкин, мог придумать настолько оригинальную и свободную манеру письма. Его проза – идеальное вместилище для неистовой эмоции и богатства выбранной им темы. В короткой книге длинное предложение становится инструментом всеохватности и ассоциативности, руслом для страстной живости темперамента, непреклонного при этом во многих своих проявлениях.
Помимо рассказа о неподражаемом Достоевском, роман Цыпкина предлагает удивительный духовный экскурс по русской реальности. Человеческое страдание в советскую эпоху, от Большого террора 1934–19385 годов до современности рассказчика, предстает, если не слишком странно так выразиться, как данность; книга дышит им. Еще Лето в Бадене – это воинственная панихида по русской литературе, всей ее истории. Пушкин, Тургенев (между Тургеневым и Достоевским разгорается спор) и величайшие фигуры литературы и нравственного поиска ХХ века – Цветаева, Солженицын, Сахаров и Боннэр – тоже вплетаются в повествование.
Прочитав Лето в Бадене, чувствуешь себя опустошенным, потрясенным, дышишь немного глубже, испытываешь прилив мужества и благодарности к литературе за то, что в ней скрыто, что обнажено. Леонид Цыпкин, может, и не написал большую книгу, но совершил большое путешествие.
Двойная судьба. Об Артемизии Анны Банти
«Non piangere». Не плачь. Это первые два слова романа Анны Банти Артемизия. Кто произносит их? И когда? Некто – автор – говорит от первого лица: это «августовский день», не называя дату и год, но их несложно вычислить. 4 августа 1944 года; под конец Второй мировой войны – в этот момент начинается действие романа Анны Банти, чья главная героиня – итальянская художница XVII века Артемизия Джентилески. Это чудовищная финальная точка в нацистской оккупации Флоренции после падения правительства Муссолини. В четыре часа утра немцы, покидая город, подорвали все древние мосты на реке Арно за исключением Понте-Веккьо, попутно разрушив огромное количество домов вблизи реки, в том числе дом на улице Борго-Сан-Якопо, где жила Банти и под обломками которого осталась погребена рукопись ее почти законченного романа об Артемизии Джентилески.
«Non piangere». Не плачь. Кто говорит это? И где? Автор, сидя в ночной рубашке (словно во сне, пишет она) на гравийной дорожке в садах Боболи на холме южного берега Арно – рыдая, уговаривая себя перестать и вдруг затихая, сраженная осознанием, чтó было уничтожено в хаосе несколько часов назад. Исторический центр Флоренции всё еще объят огнем. Идут бои, слышны выстрелы. (Союзники полностью освободят город еще только через семь дней.) Беженцы собрались в укрытии выше на холме, в форте Бельведер, откуда она только что спустилась; здесь же, пишет она, вокруг нет никого. Позже она будет стоять и смотреть на руины вдоль Арно. Так пройдет целый день. После «тяжелого белесого рассвета»6 в садах Боболи на первой странице книги наступит полдень (упоминается, что в город шесть часов назад вошли южноафриканские солдаты), потом Банти укроется под Палатинской галереей в палаццо Питти, затем спустятся сумерки, она снова вернется в форт Бельведер (где, пишет она, люди будут лежать на траве под пулеметным огнем) и с этой обзорной точки продолжит оплакивать Флоренцию, смерть вокруг – и рукопись, которая теперь существует только в ее ненадежной памяти.
«Non piangere». Не плачь. Кто говорит и кому? Сраженная горем писательница говорит это самой себе. Но еще она обращается к героине, «подруге, жившей три столетия назад», вновь ожившей на страницах романа. В этот момент утраты лики Артемизии проносятся через ее сознание, сначала «терзающаяся, отчаявшаяся» женщина средних лет на пороге смерти, затем Артемизия в Риме десятилетней девочкой: «нежные черты изможденного, упрямого личика». Словно насмехаясь над утратой рукописи, «образы с насмешливой механической легкостью текут из низвергнутого мира». Артемизия уничтожена, но Артемизия, ее скорбный призрачный образ – повсюду, куда ни посмотри. Боль Артемизии и самой Банти слишком велика в этот момент; вскоре измученный голос автора от первого лица сменяется голосом Артемизии, который постепенно, сначала урывками, потом всё чаще и длительнее уступает место голосу от третьего лица, повествующему о жизни художницы.
Читатель держит в руках роман, написанный – заново – за последующие три года и опубликованный в конце 1947 года, когда Анне Банти (псевдоним Лючии Лопрести) было пятьдесят два года. И хотя ей предстояло написать еще шестнадцать художественных и автобиографических произведений до смерти в возрасте девяноста лет в 1985 году, этот роман – ее второй – обеспечил ей место в мировой литературе.
Эта книга-феникс, рожденная из пепла другой книги, – дань боли и стойкости, как бедной девочки из начала XVII столетия, которая, несмотря на все препятствия, станет великой художницей, так и горюющей писательницы, которая напишет роман вне всякого сомнения более оригинальный, чем первый, сгоревший в пламени войны. Скорбь дает ей возможность войти в книгу свободно, обращаясь в равной степени к себе и к Артемизии. («Не плачь») Артемизия стала автору еще дороже, это чувство стало более глубоким, почти романтическим. Артемизия – ее неуловимая возлюбленная, которая из-за потери рукописи навязчиво захватила ее сознание. Это любовные отношения, которым предстоит раскрыться, отношения между писательницей, то нежной, то вспыльчивой, и ее добычей, жертвой, деспотом, чьего внимания и соучастия она отчаянно жаждет.
Никогда еще страсть писателя к своему протагонисту не выражалась так откровенно. Как Орландо Вирджинии Вулф, Артемизия – это своего рода танец с главной героиней: в нем проступают все возможные грани отношений между автором и удивительной женщиной, чьим биографом автор решила стать. Сгоревший роман переродился в роман-наваждение. Речь ни в коем случае не об отождествлении; Анна Банти не видит себя в Артемизии Джентилески – не более, чем Вирджиния Вулф видела себя в Орландо. Напротив, Артемизия всегда в первую очередь – другой человек. Писательница, ее покорная слуга, пишет под ее диктовку. Иногда Артемизия становится игриво недоступной. («Чтобы вызвать у меня угрызения совести и сочувствие к себе, она опускает глаза, словно показывая, что у нее есть секрет, но она его ни за что не откроет».) Иногда покорной, пленительной. («Теперь Артемизия читает заученный текст для меня одной: хочет показать, что верит во всё, что я напридумывала».) Эта книга – свидетельство из уст самой Артемизии. Но порой это прихотливая сказка, которой движет воображение автора без участия Артемизии, хотя та как будто и не возражает. Банти спрашивает у Артемизии, что ей можно говорить, а что нет. Артемизия не всегда желает допускать автора к своим мыслям. Это игра во взаимное утаивание: «Мы с Артемизией по очереди гоняемся друг за другом».
В какой-то момент Банти заявляет, что ей больше нет дела до почти законченной книги: «Я легко могу вообразить рядом с собой, на еще оглушенной пушками траве, утраченную рукопись – все ее пятнышки, все ее родинки, но я бы не сумела прочесть ни единой строчки». Но это, конечно, напускное. Артемизия упорно не отпускает разум Банти. Да и почему ей оставаться в прошлом? Ведь «пленнику надо как-то себя развлекать, а у меня развлечений мало – лишь кукла, которую я могу одевать да раздевать: главное – раздевать… Останься Артемизия призраком, а не диковинным именем, с которым многое связано, она бы содрогнулась от моих измышлений».
Автор, вступая со своей книгой в своем роде в любовные отношения, неизбежно становится навязчивым – слишком много размышляет, врывается не к месту, маячит в тени. Роман постоянно смешивает первое и третье лицо в эмоциональном диалоге (а диалог – это язык любви). «Я» обычно принадлежит самой Банти, но иногда, в особенно щемящие моменты повествования, становится Артемизией. От третьего лица ведется классическое отстраненное повествование всезнающего рассказчика, или же, чаще, это более теплая несобственно-прямая речь, которая настолько близка мыслям персонажа, что ее почти можно считать за завуалированную прямую. Рассказчица с ее лихорадочными откровениями и нервными попытками прощупать, что можно от лица Артемизии говорить про Артемизию, а что нельзя, всегда остается где-то поблизости.
Роман – это беседа между писательницей и Артемизией. Банти с чувством говорит, что «наши разговоры» связывают ее с книгой, но порой делает и другие заявления, как будто нарочито отстраняясь от своей героини («столь милого мне персонажа», как Банти признается в предисловии). Их связь напоминает «договор, подписанный по всем правилам у нотариуса перед свидетелями: его я обязана соблюдать». Или, думает Банти, Артемизия – это «та, у которой я в долгу, – моя неумолимая дотошная совесть, к которой я привыкла, как я привыкла спать на земле». В конце концов Банти осознает истину, одновременно простую и бесконечно сложную: что ей «уже не избавиться от Артемизии».
Присутствие Банти в повествовании – это и есть сердце книги. В одном отрывке Банти воображает знаменитый скандал из юности Артемизии, на тот момент уже необычайно талантливой художницы: в 1611 году ее изнасиловал знакомый и коллега ее именитого отца. Артемизия решила предать это огласке и добиться справедливости. В 1612 году состоялся суд, на котором несовершеннолетнюю истицу подвергли пыточному допросу; она доказала свою правоту (что не сделало историю менее скандальной), затем ее отец, который редко задерживался на одном месте, увез обесчещенную дочь из Рима во Флоренцию. А сейчас – осень 1944 года, Флоренция, Банти пишет: «И вот я веду Артемизию прогуляться по истерзанному и опустевшему после исхода беженцев саду Боболи, я принуждаю ее идти вместе с теми, кто остался, – печальными хозяевами огромного оскверненного сада, где нам встречаются проститутки да расхристанные солдаты». Банти остроумно театрализует свое авторское право домысливать, реконструировать, изобретать – а такие вольности традиционно позволяют себе и авторы так называемых исторических романов, основанных на документах. Артемизия фактически оказывается в руках властной, отчаянной рассказчицы, которая считает себя вправе помещать свою воскрешенную героиню в любую обстановку, приписывать ей новые чувства, даже изменять ее внешность. В какой-то момент, пишет Банти, Артемизия «настолько покорна, что даже ее волосы меняют цвет, становятся почти черными, кожа приобретает оливковый оттенок: такой я воображала ее, когда начала читать протоколы суда на расцвеченной плесенью бумаге. Я закрываю глаза и впервые обращаюсь к ней на „ты“».
Странствуя по повествованию, Банти, тоскующая создательница своей героини, всегда остается в современном ей настоящем. Артемизия же становится путешественницей во времени, гостьей, призраком столь реальным, что в сознании автора она обретает физическое присутствие: закончив рассказывать Банти печальную историю ее изнасилования, «она кладет голову мне на плечо – не тяжелее воробушка». Этот лаконичный, шокирующий рассказ в самом начале книги полностью заключен в диалог между ней и Банти.
Призрачные вторжения Артемизии в жизнь Банти насыщают каждый шаг рассказа о жизни художницы неподдельной эмоцией, жаждой сверхъестественной близости с недоступным прошлым. «Втиснутая во время и пространство, как не давшее всхода семя, я слушаю шелест, не приносящий прохладу, пыльное дыхание столетий – нашего и столетия Артемизии, слившихся воедино». Время от времени она падает духом. Вот что она пишет в следующем, 1945 году: «Я знаю: невозможно оживить прошлое, понять поступок, совершенный триста лет назад. Что уж говорить о чувствах, о том, что когда-то называли грустью или радостью…» Еще больше ее решимость подрывает вопрос, не затмевают ли новые удары реальности – война, разрушения – смысл этого романа, не требуют ли они от него иной отправной точки. «В ее истории была мораль и смысл, которые, вероятно, исчезли за последние дни моей жизни. Я пытаюсь, шутя, возродить и смысл, и мораль: радуйся, Артемизия, тому, что у тебя есть».
А затем книга возвращается к истории художницы – к истории женщины.
Сегодня Артемизия Джентилески – единственная женщина в ряду великих «Старых мастеров» Европы, но в то время, когда Банти решила сделать ее героиней своего романа, Артемизию еще не возвели в ранг канонических художников. И всё же именно эта биография оказывается очевидным предметом интереса для ее автора. Первые десять лет карьеры писателя – 1920-е – Банти посвятила истории искусства и продолжила возвращаться к монографиям художников (Лоренцо Лотто, Фра Анджелико, Веласкеса, Моне) в тот период, когда она создала большую часть своих художественных текстов – в 1950-е и 1960-е. Почти во всех ее рассказах и романах главные героини – женщины удивительного духа, одинокие женщины (некоторые замужем за влиятельными мужчинами), негодующие женщины; негодование самого автора проступает между строк сдержанного, изящного повествования от третьего лица. Выбор персонажей говорит о противоречивых чувствах Банти в отношении собственных амбиций и достижений. В 1930-х годах она хотела стать кинорежиссером, что было невозможно в фашистской Италии, и только позже обратилась к художественной прозе. (Первый ее рассказ напечатали в литературном журнале в 1934 году под псевдонимом, и с тех пор она издавалась только под ним.) Как она говорила на закате своей долгой жизни, она испытывала слабость к историям «по-своему мудрых» женщин, осознавших «поражение добра» и «горькую посредственность» своей судьбы, а не к историям побед в самоотверженной борьбе за творческое призвание.
Роман об Артемизии Джентилески, написанный в безудержно эмоциональной манере, – великое исключение; это повесть о триумфе поразительно одаренной женщины во времена, когда карьера независимой художницы была практически немыслима.
Имя Артемизии как будто неслучайно ассоциируется с женским упорством, с женщинами, преуспевшими в мужских занятиях. В греческой мифологии Артемида – а Артемизия значит «последовательница Артемиды», – это богиня охоты. В истории – в великой Истории Геродота, которая рассказывает о попытке Персии завоевать крошечные независимые города-государства Греции на северо-западной границе необъятных владений Ксеркса, – это имя королевы и воительницы Артемисии, правительницы греческого города Галикарнаса, которая стала союзницей Ксеркса и получила от него в командование отряд из пяти кораблей.
Если уж говорить о призваниях, то греческая правительница во главе персидской военно-морской эскадры звучит почти так же невероятно, как итальянка, в XVII веке ставшая востребованной художницей и автором крупных композиций по библейским и классическим сюжетам, в центре которых часто оказывались разгневанные и трагической судьбы женщины. Женщины убивают мужчин: Юдифь отрезает голову Олоферна, Иаиль вбивает кол в висок Сисара. Женщины убивают себя: Клеопатра, Лукреция. Женщины униженные, беззащитные, молящие о пощаде: Сусанна и старцы, кающаяся Мария Магдалина, Эсфирь перед Артаксерксом. Все эти образы созвучны страданиям самой Артемизии, которая уже совершила к тому моменту нечто героическое, буквально неслыханное: обвинила насильника в суде и потребовала для него наказания. (Банти воображает «юную Артемизию, жаждущую оправдаться, отомстить, повести за собой».) Ее героизм и амбиции тесно сплетены с ее бесчестьем; по сути ее освободил именно позор, скандал, который навлекла на себя сама жертва (как и не исключено, что военный талант Артемисии раскрыло публичное порицание перехода на сторону врага).
Банти так рассказывает о решении Артемизии: «Тогда я сказала, что поеду сама: думала, после позора у меня, по крайней мере, есть право вести себя свободно, как мужчина». Для женщины быть свободной – свободной, как мужчина, – значит сделать выбор, принести жертву, навлечь на себя страдания, что может случиться и с мужчиной, но не потому, что у него нет иного пути. В повествовании Банти центральное место в жизни Артемизии занимает не изнасилование, не брак с малознакомым мужчиной, за которого ее выдал отец сразу после вынесения приговора насильнику, не четверо детей (три из которых умерли) от ее мужа. Это ее изоляция – неотвратимое последствие ее преданности искусству. Это ее одиночество, ведь, как считает Банти, главные отношения в жизни Артемизии – с человеком, которого она любит беззаветно, благоговейно и который не любит ее в ответ: с ее отцом, Орацио Джентилески, мастером живописи и другом Караваджо. (На карте истории искусств и отец, и дочь значатся как художники барочного направления, возникшего вслед за караваджизмом.) Именно он учил свою не по годам одаренную дочь и трех ее младших братьев – как показало время, весьма заурядного таланта. Однако в жизни Артемизии он присутствовал урывками и свои последние двадцать лет провел в Генуе, Париже и, наконец, в Англии, где он вошел, наряду с Антонисом ван Дейком, в круг художников при дворе короля Карла I, обладателя ценнейшей коллекции живописи того времени. Из-за исключительной важности отношений Артемизии с ее строгим, недоступным отцом самым подробно и трепетно описанным событием книги становится ее одинокое путешествие по воде и земле из Неаполя (через Ливорно, Геную, Париж и Кале) в Лондон, куда ее внезапно пригласил Орацио. Семидесятичетырехлетний художник хотел, чтобы она вместе с ним присоединилась к придворным живописцам.
Как бы дерзко Артемизия ни отвергала традиционные представления о женской роли (и пренебрегала женскими потребностями, в которых видела для себя слабость) во имя карьеры художника, она остается знакомым нам женским типажом. Ее жизнь и характер обусловлены страхом и подобострастием перед далеким, властным отцом. В жизни Артемизии нет матери. Место материнской фигуры в романе занимает Банти – автор в поисках персонажа, в отличие от Пиранделло и его персонажей в поисках автора, – словно боль и утраты Артемизии может как-то облегчить сочувствие писательницы-итальянки, рожденной в 1895 году, словно та может вернуть к жизни художницу-итальянку, рожденную в 1590 году, и действительно понять ее7.
В конце романа, когда в 1638 году неприкаянная Артемизия оказывается одна в Лондоне – ее отец только что умер, – происходит еще одно пересечение веков: в 1939 году Банти, уже без сомнения задумав или даже начав писать свой роман, едет в Англию на поиски (безуспешные) могилы Орацио. Затем повествование следует за Артемизией обратно в Неаполь; все ее мысли поглотила смерть. Оплакивая отца и воображая собственную гибель в перевернувшейся карете, кораблекрушении, от рук разбойников (и еще во многих других фатальных видениях), Артемизия переживает-таки все опасности долгого пути и освобождается от своего мертвенного отчаяния и даже от своего «жестокого, сурового столетия», смирившись с собственными физическими нуждами – в еде, питье, сне – и с призрачным утешением, «смутным предчувствием эпохи, полной любви, навстречу родной душе – единственной, что сумеет ее оплакать».
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе