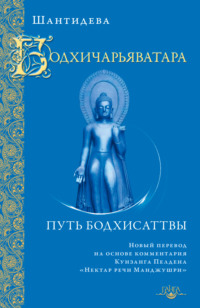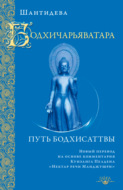Читать книгу: «Бодхичарьяватара. Путь бодхисаттвы», страница 3
Защита и поддержка бодхичитты
Исходная приверженность бодхичитте нуждается в укреплении – это становится очевидным с первых же строф четвертой главы, где Шантидева ревизует содеянное и берется определить ему цену. Затеянное им начинание, за кое он взялся в пылу восторга, потрясающе. Нерешительность его понятна. Тем не менее, осознавая альтернативы, и ради укрепления решимости, Шантидева пускается в графическое описание ужасающих последствий отказа от своего решения. Как всегда, его цель – в наставлении. Шантидева – не яростный проповедник, которому довольно всего лишь запугать слушателей. Положение дел в его описании и впрямь мрачно, но он показывает выход и намечает план воспитания ума, который в своей духовной глубине и психологической остроте и тонкости не имеет себе равных и, несомненно, в истории мировых религий не превзойден.
Первая весть заключается в том, что, какой бы колоссальной ни казалась цель, ее достижение возможно, если желать ее и приложить необходимые усилия. Мы можем научиться свободе и стать буддами. Более того, Шантидева сообщает, что, обретя человеческое существование, мы оказались на распутье – достигли точки перелома. Согласно буддийским учениям, человеческая жизнь, драгоценная и в то же время уязвимая, – настоящая экзистенциальная возможность. Из всех форм существования лишь в ней возможно истинное развитие по духовной траектории. И все же эта возможность легко и фактически по привычке, расточается в погоне за обыденным. Время идет, и мы продолжаем «мерять жизнь кофейными ложками». Понимая свойство этой возможности и зная, как легко она утекает сквозь пальцы, Шантидева откликается едва ли не в панике:
Досталось чудом это тело,
Что нелегко найти и в нем спастись.
Но и теперь, умея различать,
Я вновь и вновь в ады ввергаюсь.
Я словно околдован силой черной,
К бессмысленности полной низведен.
Чем разум мой притуплен, я не знаю,
И в чьих тисках я оказался вдруг? (4.26–27)
Ситуация, несомненно, рискованная, но в чем же опасность? В клешах, омраченных состояниях ума: «Похоть и гнев мне вечные враги…» (4.28). Из этих корней скорби в итоге и растут все страдания – личные или вселенские. И все же эти клеши, какими бы ужасающими ни были их последствия, – всего лишь мысли: неосязаемые, мимолетные состояния ума. Тема четвертой главы – начало осознавания этого факта и осмысление того, что наша судьба в наших руках, и мы в силах упорядочить работу своего ума. Как всего лишь мыслям, спрашивает Шантидева, удается порождать такой беспорядок? Ответ прост: мы сами позволяем этому случаться. «В глубинах моего ума прижившись, наносят раны мне из развлеченья» (4.29). Этими словами прочерчивается линия фронта. Враги – нарушения равновесия ума: мысли гордыни, гнева, похоти, зависти и всего остального. Поле битвы – сам ум. Собираясь с духом перед сражением, Шантидева укрепляет уверенность в себе, взывая к своей гордости и чувству собственного достоинства. Этот метод необычен и ярко характеризует практический подход Шантидевы – своего рода психологическую гомеопатию: при таком подходе поведение, обычно расцениваемое как скверна, сознательно и через силу принимается как противоядие самой скверне. Эта тема полнее раскрывается далее в тексте, но пока четвертая глава завершается на звенящей ноте. Эмоциональные омрачения – враги, они должны быть изведены. «Всепоглощающею станет это страстью, и с горечью вступаю я в борьбу!» (4.43).
Парадокс в том, что война не столь уж и изнурительна. Скверна – всего лишь мысли. Должной сноровкой и разумением их легко устранить. Стоит взору мудрости их рассеять и изгнать из ума, как они по определению прекращают существовать. И все же – с чувством, которое должно проникнуть в сердце каждого практикующего, – Шантидева размышляет: «Но немощен мой ум и празден я!» (4.46).
Однако, прояснив, что проблема заключается в самом уме, или, вернее, в эмоциях, в нем возникающих, простая, но нелегкая задача – осознать, как мысли зарождаются и развиваются. Это тема пятой главы – о бдительном самонаблюдении. Вновь слышна нота практического оптимизма. Ум – источник любого страдания и точно так же – источник любой радости. И, опять же, утешительно, что умом можно управлять и его обучать.
Но если бечевой памятованья
Слона ума удастся привязать,
В ничто все твои страхи обратятся,
А все достоинства окажутся в руках (5.3).
Основная проблема, подтверждаемая при размышлении над практическим опытом, – не в том, что омрачения возникают в наших умах, а в том, что в девяти случаях из десяти мы не осознаём их присутствия. Или, вернее, к тому времени, когда навяжут себя нашему бодрствующему сознанию, они обычно успевают принять такие масштабы и мощь, что в обыденных обстоятельствах мы бессильны предотвратить их последствия. Внезапная вспышка разрушительного гнева, порыв похоти, безжалостное или высокомерное слово, способные привести к роковым последствиям, должны иметь источник – возможно, в далеком прошлом – в мимолетной вспышке нетерпения или желания, которые, будь они распознаны вовремя, можно было бы легко нейтрализовать и устранить. Хорошо, допустим это, но как именно обрести такое совершенное самообладание, чтобы ни один, даже самый малый, импульс ума не проскочил незамеченным? Увы, никаких чудодейственных решений нет. Метод, предписанный Шантидевой, – неукоснительная, постоянная бдительность: непрерывная чуткость ко всему, что случается на внутреннем плане. Он говорит, что мы должны стеречь свой ум с той же заботой, с какой оберегаем сломанную или пораненную руку, пробираясь сквозь буйную толпу; и образовательные приемы испуга и подбадривания оказываются вновь кстати. Шантидева рекомендует: как только в нас возникает позыв что-либо сделать – высказаться или даже просто пройтись по комнате, – нам необходимо всякий раз применять самонаблюдение. На легчайший позыв к негативности должно отзываться полным параличом всей системы: «Остановись! Замри бревну подобный!» (5.50–53). Ни единой мысли нельзя позволять претвориться в действие, прежде не усомнившись в ней. С учетом требуемой степени самоосознания неудивительно, что Шантидева имеет в виду мелочи повседневного поведения – всякую «ерунду», на которую мы по привычке не обращаем внимания, оправдываясь тем, что она для этого слишком незначительна. По сути, в такого рода практике именно мельчайшие, подсознательные импульсы и шаблоны поведения и требуют самого тщательного внимания. И в любом случае, всякое наше действие влияет на окружающий мир. Оно может стать причиной страдания или причиной причины чьего-то страдания. И потому то, как мы едим, ходим, передвигаем мебель, даже личная гигиена – все имеет значение.
Повышение той осознанности, которую отстаивает Шантидева, обязано пробуждать понимание чего-то такого, что для большинства из нас если и не проходит совсем незамеченным, то уж, во всяком случае, остается неизученным. В этом кроется особая безрассудная влюбленность ума в свой физический носитель. Мы обожаем свои тела и глубоко ими увлечены. Мы поглощены их ощущениями до такой степени, что отождествляем себя с ними и в оправдание тому изобретаем философии и теологии. Как и Будда до него, Шантидева ставит все это под вопрос: до чего же странно, что ум отождествляется с чем-то столь внешним по отношению к себе, как физическое тело, – столь хрупким и, в конечном счете, разочаровывающим, составленным из отвратительных частей, – да еще и считает это физическое тело желанным. По отношению к своей и других живущих телесной оболочке, ум будто бы движется в измерении, где почти все понарошку, и поразителен парадокс: ум способен переживать сильнейшее влечение к тому, что при ближайшем рассмотрении почти всегда его же и отвращает. Тем не менее Шантидева ни в коем случае не отвергает тело, и дух разрушительного аскетизма и подавления так же ему чужд, как и любому другому буддийскому учителю. У тела свое место и ценность, но от одержимой и порабощающей поглощенности телом ум нужно освободить.
Размышления о статусе тела и важности, которую оно имеет в контексте личного опыта, приводятся подробно в главе о терпении. В завершение главы, посвященной защите бодхичитты, терпение превозносится как высшее самоограничение. Оно – противоядие гневу, который в буддизме считается самым разрушительным и опасным свойством ума. Гнев, определяемый как наводнение ума насильственными и агрессивными чувствами, естественно ведущими к враждебности и конфликту, в буддизме объявлен вне закона – как ни в одной иной религиозной традиции. Даже так называемый праведный гнев, который столь часто прощают как направленный на несправедливость и насилие, полностью осуждается, если в приливе неуправляемой разрушительной страсти он берет верх над умом. Помимо чисто внешнего и некоторым образом искусственного негодования, добавленного в образовательных целях, имеющих сострадательное намерение и выраженное тем, кто способен управлять своим умом, гнев в системе духовного развития совершенно неуместен. Он полностью чужероден обучению ума, он разрушает и в мгновение уничтожает ока все успехи и собранные заслуги.
Коли так, возникает ключевой вопрос: как вести себя в неприязненном окружении? Шаг за шагом Шантидева смещает фокус внимания на подлинный источник проблемы – на основу гнева и всех иных омрачений. Это эго, самость, чувство «Я», ощущаемое центром Вселенной, воспринимаемой другом или врагом с эгоцентрической точки зрения. В буддизме, конечно, это центральная тема, и ее можно полноценно обсуждать лишь в свете всеобъемлющего учения о пустотности. Тем не менее, Шантидева на некоторое время остается на уровне относительной практики. Он стремится показать, как разбираться с проблемой врагов – агрессией и мстительностью – в контексте ежедневного опыта. Его доводы изобретательны, а логика беспощадна, и к концу главы мы волей-неволей понимаем, что не только нельзя давать волю гневному отклику, но и сами конфликтные ситуации, преодолеваемые и разрешаемые благодаря терпению, бесценны, по сути – незаменимы как необходимые для духовного роста. Как описывает Шантидева, терпение предполагает почти невероятный уровень стойкости и отваги – мужества Махатмы Ганди или Мартина Лютера Кинга. Ни в коей мере не походя на вялое и бесхребетное молчаливое согласие, как убеждал бы нас Ницше, терпение Шантидевы – абсолютный героизм, бесстрашие, доведенное до совершенства своей глубиной.
Шантидева указывает, что гневом – нормальной реакцией на враждебность и невзгоды – ничего, кроме усиления страдания, не добьешься. Это наш «враг… несущий лишь печали» (6.6). Его необходимо уничтожить, и, теперь уже ожидаемо, Шантидева принимает вызов, воодушевляя себя словами ободрения. В конце концов, страдание, пусть и нежеланное, можно и применить к делу. Без него мы бы уподобились богам, никогда не желающим освобождения от самсары. Оно усмиряет нашу гордыню и рождает сочувствие к тем, кто так же страдает. Даже добродетель становится привлекательной!
Раздражение от живущих, которых мы воспринимаем неприятными или опасными, возникает в уме естественно, и кажется нормальным негодовать на обидчика. Но Шантидева просит нас быть не настолько поверхностными. Страдая, например, от физических неудобств болезни, мы хорошо знаем, что они происходят от потери равновесия в теле. Нам может не нравиться боль, но гневаться и обижаться на нее абсурдно. Таким же образом и недружелюбное поведение врагов не возникает спонтанно – оно также есть плод причин и условий. К чему негодовать на тех, кто сам – жертва эмоциональной скверны? Не оправдан сам факт признания обидчика как действительно существующей самости против нашей собственной (вместо простого осознавания взаимодействия внеличных психофизических сил). То, что задевает нас как неуправляемое поведение других, бывает и впрямь трудно вынести, но когда мы понимаем суть ситуации, становится легче справиться с ее неудобствами. Например, когда на нас нападают, важно помнить, что обидчик действует из порыва, вызванного его собственными омрачениями, и навлекает тем самым страдания на самого себя. Зная это, Шантидева говорит: «Какой же цели наша злоба служит?» (6.38). В любом случае, объективно говоря, враги могут быть двух видов. Они или по сути своей враждебны – тогда обижаться на их поведение абсурдно, как нелепо обижаться на огонь за то, что обжигает; или же они по сути своей благонамеренны, но временно подпали под обострение омраченности. И здесь враждебность неуместна: это столь же глупо, как злиться на небо за то, что оно затянуто дымом. Коме того, когда кто-то бьет меня дубиной, я не злюсь на дубину, а злюсь на того, кто меня бьет. По той же причине нелогично ненавидеть своих врагов. Они, может, и держатся за свое оружие, но сами при этом одержимы своими же омрачениями. И потому мне стоит обижаться на эмоции, жертвами которых стали мои враги.
Делая еще один шаг в аргументации, Шантидева указывает: в любом конфликте жертва и обидчик обоюдно зависимы. Например, если при физическом нападении причинена боль, она имеет два важных источника, соотносящихся как с нападающим, так и с объектом нападения. Сам факт страдания зависит от того, насколько сильно умы жертв цепляются за свои тела как за рану, нанесенную обидчиком.
Орудья их и моя плоть —
Вот две причины у мученья!
Они трясут оружьем, а я – телом;
Так кто же больше ярости достоин? (6.43)
Опять-таки, весь опыт кармически обусловлен. События, лежащие, казалось бы, вне нашей власти, на самом деле – плоды предыдущих действий, а, следовательно, неверно утверждать, что враг – это просто обидчик. «А кто вредит, идя наперекор, тех моя карма притянула, верно» (6.47). Более того, учитывая последствия дурных дел врагов, а также великие плоды терпения перед лицом невзгод, мы приходим к парадоксальному заключению: «А значит, я – мучитель их, терзатель! А значит, мне они приносят пользу!» (6.49). И с этими словами Шантидева сводит до абсурда общепринятый подход к враждебности обидчиков.
Развивая этот аргумент, Шантидева показывает, что враги – не просто объекты терпимости; их следует ценить как незаменимых помощников на пути бодхисаттвы. Наши враги делают для нас то, что ни один возлюбленный или друг сделать не в состоянии. Пробуждая нас к подлинной сути нашего собственного цепляния за эго, наши враги открывают нам возможности терпеть, очищаться, истощать дурную карму. Так что неизбежно заключение:
Как Будды самого благословенье,
Мне, неотступному, они отрежут путь
К вверженью с головой в пучину скорби:
Как я могу теперь на них сердиться? (6.101)
Укрепление бодхичитты
Далее Шантидева переходит к кульминационным главам своего великого произведения и определяет пути, коими бодхичитта может прийти к своему высочайшему звучанию. Как в первой и четвертой главах, он начинает подхлестыванием чувства безотлагательности и воодушевления. Здесь он пылко повествует нам о неприглядной реальности близкой смерти и возможности перерождения в адских сферах. Каково нам будет, если мы безрассудно промотаем эту возможность освобождения, дарованную нам человеческим существованием, когда явятся слуги Владыки Смерти и адский грохот поразит слух наш? Более того, что бы мы ни думали о своей добродетельности и благополучии в настоящее время, Шантидева уверяет нас, что накопленных с безначальных времен и затерянных в закоулках умов остатков нашей кармы более чем достаточно, чтобы вызвать разрушительное падение.
Как можно пребывать в довольстве,
Когда такое свершено, что разольются
Расплавы жгучие в аду Жары Несносной
На плоть нежнейшую твою, как у младенца? (7.12)
Несомненно, эта человеческая жизнь – не время для самодовольства. И все же послание Шантидевы полно надежды и практической убежденности. У нас сейчас есть эта возможность, наша судьба – в наших руках. «Воспользуйся же, – говорит он, – лодкой тела. Рвись из скорбей печального потока!» (7.14).
Необходимые качества – мужество и решимость не сдаваться. Шантидева отмечает, что соскочить с пути под предлогом чрезмерности предстоящих усилий означает идти против истины: это не что иное, как праздность и трусость. В конце концов, при должном усердии даже насекомые могут обрести освобождение. Здесь мы вновь видим, что мотив гордости – созидательный инструмент поддержания решимости. Шантидева уделяет этому большое внимание, проводя различие между здоровой уверенностью и высокомерием, подключая игру слов, что приводит к своего рода головоломке12. Как и прежде, несмотря на безрадостные рассуждения, общий тон чрезвычайно позитивен. Слоны спасаются от невыносимой полуденной жары в прохладной воде озер. Так и бодхисаттвы бросаются в великие дела ради блага живущих. Седьмая глава завершается нотой спокойной неколебимой уверенности.
Обучающийся бодхисаттва с намерением, укрепленным старательностью, бдительным самонаблюдением и совершенством терпения, подстегнутый желанием трудиться без отдыха, пока цель не будет достигнута, берется за постижение подлинной, истинно преобразующей ум дисциплины. Восьмая глава, о созерцательном сосредоточении, – а она есть вершина в учении относительной бодхичитты, – состоит из двух частей. Вначале – предварительные наставления о том, как создать подходящее пространство для медитации (первые 90 строф). Затем следует подробное описание самой медитации. Шантидева излагает суть дела с позиции монашеского отречения. Он сам был монахом, и необходимо помнить, что впервые «Бодхичарьяватара» была публично прочитана собранию монахов в Наланде. Но, несмотря на это, было бы непростительной ошибкой со стороны практикующего мирянина отметать учение Шантидевы как имеющее силу исключительно для посвященного монашества. Напротив, Шантидева подчеркивает принципы всеобщей применимости, которые, по сути, непреложны для каждого желающего следовать пути глубинного и действенного духовного преображения.
Глава начинается, как и можно было бы предположить, с заявленной необходимости сосредоточиться и устранить витания ума. И нам объясняют, что идешь ли в монастырь или предпочитаешь оставаться в миру, без значительного снижения вовлеченности в мирские дела успеха в сосредоточении ожидать не приходится. Естественно, внешнее соблюдение монастырского порядка видится особенно подходящим для развития покоя ума, но, в конечном счете, главную роль играет внутренняя мотивация и личная дисциплина. Так, нам настоятельно советуют быть внимательными в выборе спутников, напоминая попросту о том, что небрежная жизнь, в коей мы окружены материалистическими ценностями и поведением мирских друзей, никуда нас не приведет. Результатом будет лишь бессмысленность и разочарование. Шантидева советует сторониться тех, чьи ценности противоречат Дхарме, – людей, которых он привычно называет «подобными детям», «юнцами» (то есть тех, о ком надо скорее заботиться, нежели обижаться на них). И потому Шантидева предписывает уединение, уход от мира – конечно, не в пуританском, отрицающем мир смысле, но в духе внутренней свободы. Покой ума, замечает он со значением, доступен «тем, кто не привязан к миру», и потому устремляется к нему, «не взглянув назад» (8.4, 8.26). И Шантидева в своей радости уединения в глуши весьма лиричен.
Практика, естественно, – не без трудностей и препятствий, которые можно объединить в две категории: желание общества и жажда обладания. В первом случае Шантидева обращается к сексу и трудности, вызванной физическим желанием, что само собой ведет к практической задаче ослабления одержимостью сексом. Он рекомендует себе и своей монашеской аудитории медитационную технику размышления и сосредоточения на нечистых, непривлекательных аспектах женского тела. И не без чувства юмора рассуждает над абсурдностью общественных условностей ухаживания и женитьбы – не только в отношении сугубо физической действительности, но и с точки зрения непостоянства и смерти. Таким образом, Шантидева дает монашеской общине важные наставления о том, как развивать добродетель целомудрия и сохранять обет безбрачия. Но, как мы уже говорили, поскольку в этой части Шантидева рассматривает физическое влечение как таковое, учение имеет всеобъемлющую применимость, независимо от социального статуса и, раз уж на то пошло, сексуальной ориентации. Практикующим в миру также требуется признать, что в сексуальной жизни, как и в других аспектах самсарного существования, ум привлечен тем, что, по сути, есть мираж. Ум привычно работает, полностью пренебрегая объективной физической действительностью или, по крайней мере, в высшей степени избирателен в том, что замечать, а что нет. И в любом случае, желание есть желание – ради успеха на пути (включая и тантрический) оно должно быть превзойдено.
Касательно личных привязанностей – приобретения собственности, например, – послание Шантидевы состоит в том же самом: люди проводят свои жизни, гоняясь за химерами. Они разрушают себя в поисках богатства, которое если и добыто – услаждает лишь на краткий преходящий миг: пучок травы, который бык в состоянии прихватить по пути, пока тянет телегу! И все же Шантидева восклицает: «Но и с мильонной долей этих мук возможно просветленье обрести!» (8.83).
После очередного восхваления преимуществ уединения, Шантидева рассматривает две темы, составляющие высшую точку его учения и являющиеся сутью пути бодхисаттвы: медитация на равнозначность себя и других и медитация замены себя другим13. Здесь предмет обсуждения усложняется, накладываясь на глубинное учение о пустотности. Поскольку очень скоро становится очевидным, что на пути бодхисаттвы сострадание понимается не только лишь как сочувствие страданию живых или даже решимость сделать с этим что-то практически (каким бы замечательным ни был такой труд). В буддизме Махаяны сострадание и приложенная мудрость предполагают выход за пределы эго как такового и понимание того, что в конечном счете экзистенциальный барьер между собой и другими совершенно мним, он – лишь построение ума. Как только этот барьер пройден, и бодхисаттвы постигают иллюзорность различения себя и других, страдание других становится столь же настоящим, как и их собственное. Несомненно, страдание других – это собственные страдания бодхисаттвы, а жажда облегчить их – как сиюминутно, так и окончательно – становится основной движущей силой. Эти идеи многим читателями могут показаться незнакомыми и, вероятно, способны сбить с толку, да и смысл самого текста не всегда легок для понимания. По этой причине в конце книги, в Приложении дается значительный фрагмент тибетского комментария Кунзанга Пелдена. Здесь необходимо подчеркнуть, что буддийское учение о сострадании укоренено в мудрости пустотности. Именно из этого извлекаются смысл и движущая сила, применимость и практическая возможность.
Тот, кто прибежищем готов
Стать остальным, как и себе,
На место всякого себя поставить должен,
Постигнув этим таинство святое (8.120).
Практика замены других собой, которую можно довести до той степени, когда превзойдена двойственность себя и другого, есть вершина практики бодхисаттвы и приводит нас к самому сердцу буддийской мудрости. Из этой точки проистекает весь смысл учений «Пути бодхисаттвы» и в ней же он находит свою завершенность. Все сжимается в одну строфу, в которой Шантидева провозглашает окончательный космический принцип:
Вся радость, что содержит мир,
Приходит с жаждой счастья прочим.
И все страданье, что содержит мир,
Приходит с жаждой угождать себе (8.129).
Здесь, как и обычно, Шантидева не бросает нас, ошеломленных и растерянных. Он быстро приводит методы, разработанные нам в помощь на этом пути. Этим он определяет практику, которая, согласно Е. С. Далай Ламе, уникальна для всего спектра буддийского учения. Шантидева описывает медитацию, состоящую в мысленной постановке себя на место другого усилием сочувственного воображения, и эта медитация нацелена на преодоление основного препятствия в постижении равнозначности (а именно – на эго как таковое), и такая замена служит в ней ориентиром. Всматриваясь глазами оппонента в себя самого, медитирующему следует нацелиться на собственное эго и, производя соответствующую «негативную» эмоцию зависти, соперничества или гордыни, самому лично пережить, каково это – сталкиваться с подобным поведением. Эта методика представляет большой психологический интерес и очень действенна, ее подробно прокомментировал Кунзанг Пелден (перевод его комментария можно найти в Приложении 3). Поразительно и то, как эта техника может ослабить эго, с ее помощью можно уменьшить иллюзорный барьер между собой и другими, а если принять во внимание все ранее сказанное, станет очевидно, что для действительного переживания равнозначности и замены себя другими необходимо истинное понимание мудрости пустотности. Так мы можем постичь важность метафизической позиции Шантидевы и оценить, до какой степени его учение вдохновлено и поддержано этой позицией. «Бодхичарьяватара» была бы неполной без подробного обсуждения мудрости.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе