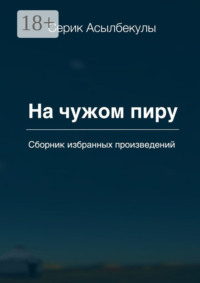Читать книгу: «На чужом пиру», страница 8
– Не узнаете этого джигита? – спросил Казантай, показывая рукой на сидевшего молча Корганбека.
– Вроде, припоминаю… – Ускенбай искоса оглядел Корганбека.
– Если припоминаете, то подскажу – это старший сын Айдарбая Корганбек, который в Алма-Ате теперь живет. Вот, приехал погостить в родные края.
– Молодец, правильно сделал, – проговорил Ускенбай. – Как там у вас? Все живы-здоровы, светик мой?
– Здоровы, ага..
Нить разговора снова перешла к Казантаю.
– Из Конбейта едем. На могиле отца Корганбека были.
– Э, это святое дело – навестить могилу предков своих, – произнес Ускенбай, переходя теперь на присущий старикам неторопливый тон. – С отцом твоим – покойным Айдеке – мы с детства вместе росли, блаженство ему загробное. Хорошо, что поклонились ему, светик мой. Это – единственное, чего ждут мертвые от живых. Наверное, после твоего приезда дух Айдеке почувствовал удовлетворение. Как бы то ни было, хорошо, когда есть кому тебя помянуть. Моя старуха девятерых родила. Семеро из них – в земле. Две дочери остались. У обеих семьи. Старшая в области большой начальник – главный бухгалтер, и зять на хорошей работе. Нам-то от них проку мало, даже два-три слова жалеют нам написать. Заботится о нас младшая, что здесь, в центральной усадьбе. Чай, сахар хотя бы привозит. Зять на машине работает. Заезжает, когда по пути. И он, единственный сын у своих родителей, неплохой парень. «Отец, что же вам на старости лет оставаться в безлюдном ауле, переезжайте к нам», – зовет. Мы не отказываемся переехать, да куда деть скотину? Разве в центре найдешь для них сено и корм? К тому же у старухи до пенсии пары годочков не хватает, а здесь она сторожем числится. Поэтому, на старости лет одни охраняем отчий аул, сынок. Пока жив, пока при силе, хочу и ее – о старухе говорю – обеспечить от государства, надо, чтоб после смерти моей она на своих хлебах оказалась.
– Кстати, совсем забыл, а где же тетушка-то? – спросил Казантай, глядя на открытую дверь дома.
– Ее я вчера с трактористами, что здесь землю пашут, отправил в центр. – Усеке с присвистом прокашлялся и продолжил разговор. Корганбек заметил в его голосе и другую хворь, ту, что приходит со страстью, и с которой никакими снадобьями уже не сладить. – Завтра ведь девятое мая, праздник. Отправил, чтобы у дочери погостила, развеялась.
– И вправду, завтра же праздник, – произнес Казантай, удивившись тому, как он мог забыть, что завтра Девятое мая. – А прежде, вспоминается, дядюшка, здесь в Акиине, на каждый праздник устраивались скачки, состязания борцов, все наряжались, поднимались на холм, пели, радовались…
Ускенбай встрепенулся.
– Охо, почему бы и не устраивать скачки и состязания борцов? Тогда же народу было сколько, с одной стороны – Тартубек, с той – Жуантобе, все собирались здесь, в Акиине. Как сейчас помню послевоенное время. В ту пору мужчины были особой чести. Сары Кулмамбетияр-улы, тот вообще взбесился, словно кобель – при живой жене, еще одну молодую взял. Перед одним из праздников собралось нас немало возле магазина. Сейчас уж не упомню, кто-то в ауле сына женил и мы шли со свадьбы. Тот самый Сары, навеселе, стал задираться к покойному Тинали. А были они, как мы с тобой, племянник да дядюшка. Пристает Сары к Тинали: «Давай бороться, да давай бороться». Покойный Тинали, хоть и крупным и подтянутым был мужчиной, но от природы смирным. Стал он уклоняться, да отходить от задиры. Ну а мы, Айдеке, твой отец, ныне покойный Катеп, сейчас здравствующий, всю жизнь проработавший бригадиром Тлепбай, которого все молодые женщины прозвали «деверь-бригадир», Елемес с кошачьими усами – все мы окружили Тинали, разве в стороне останемся, все поджучиваем да подбадриваем: «Давайте-ка, поборитесь!». Пришлось Тинали поневоле выйти в круг. Поначалу он, робея, все уклонялся от задиры. «Экий рохля!..» – злились мы, – да и что с нас возьмешь – молодые в ту пору были… Ну, так вот, схватились они. Руки у Тинали были сильными – все же известный на всю округу умелец. Не солгу, пожалуй, если скажу, что стены домов нашего аула возведены им. К тому же и парнем он был крупным и ловким необычайно. Не прошло и мгновенья, как швырнул он Сары на голый такыр перед магазином. Ударившись о такыр головой, сын Кулмамбетияра полчаса пролежал без сознания. Из носа потекла кровь. Младшая жена, прижав голову бедняги к груди, вопила в голос. Тут же мы все растерялись. У Тинали душа совсем в пятки ушла – и без того робок, а тут и вовсе глаза из орбит полезли. Но, слава Богу, все обошлось хорошо – спустя полчаса пришедший в себя Сары, резко отбросив от себя рыдавшую жену, вскочил на ноги и ухватил Тинали за ворот. «Никогда тебе не поумнеть, не стать человеком… Да и на свете-то ты еще существуешь, благодаря милости и стараниям моей сестры. А ну-ка, падай немедленно мне в ноги, иначе не только мои, но и руки всех моих потомков от обеих жен будут за твою проделку со мной хватать тебя за ворот. Хотя я и младше тебя по возрасту, зато старше по родству, мог бы сам свалиться, коль мы схватились, дубина ты стоеросовая!» – набросился на покойного Тинали этот негодник. Только что сникшая от испуга толпа теперь загалдела, одобряя Сары. Тинали, бедняжка, совсем рассудок потерял. Стоял, изумленный, то бледнея, то краснея. Одним словом, что вам долго головы морочить, Тинали в это день зарезал овцу, подарил Сары чапан и, получив благословение аксакалов и карасакалов, едва отделался от всего этого. Да, подумать только, тоже ведь времена были славные.
Окончив рассказ, старик вытянул шею и еще раз прокашлялся. Увлеченные рассказом джигиты глядели на него выжидающе, надеясь услышать еще одну историю.
– Кстати, дядюшка, завтра же праздник. У нас в машине поллитровка есть, что если мы ее здесь и распробуем? – предложил Казантай, лукаво подмигнув Корганбеку.
– Ну что же, пробуйте, если есть охота, – ответил старик, поднимаясь и отряхивая полы чекменя. Старик вынес из дома кастрюлю с айраном, хлеб и расстелил дастархан. Казантай принес из машины поллитровку.
– Ох, ох, ох! До чего же хорош айран у нашей тетушки! – с восхищением произнес Казантай, разом опорожнив целую пиалу и сладко причмокивая, словно отродясь не пил айрана. – Ну, прямо, чистый мед, чистый мед!..
Выпил пиалу айрана и Корганбек. И в самом деле айран был необыкновенно вкусен. Гостю показалось, что от айрана пахнет свежим степным ветром и цветущей полынью.
Казантай начал разливать в маленькие чайные пиалы водку. Когда тонкое горлышко прошло над двумя пиалами и двинулось к третьей, старик удержал руку Казантая.
– Мне не наливай!..
– Да вы что, дядюшка! Сколько помню, вы ведь хотя бы на один заряд всегда готовы бывали, – сказал Казантай, недоуменно поглядывая на старика. – Или, кстати сказать…
– Ну чего ты заладил: кстати, кстати!.. – Ускенбай, нарочно прикинувшись рассерженным, грозно взглянул на племянника. – Бросил я пить. Вы уж как-нибудь без меня угощайтесь.
Казантай все же не придал значения словам старика.
– Да ведь когда-то… —начал было ворошить он свою память, выискивая что-то.
Ускенбай оборвал его на полуслове.
– Когда-то, когда-то!.. Чего только не бывало когда-то. Скрывать не буду, в прежние времена крепко дружил с этой гадостью. Не раз, бывало, в любви ей объяснялся. Не валялся, правда, подобно свиньям, на улице, как некоторые нынешние. А потом сообразил, что в этой штуке таится шайтан. Уж не осудите, что перескакиваю с одного на другое, только вот, к слову, вспомнилось. Когда был помоложе – гонял в Каракалпакию лошадей на продажу. По пути аулов не счесть. Так вот, по пути домой, добрался я на утро третьего дня до аула Рыжего Садыка по прозвищу Желтый самовар, который пас скот на противоположном отсюда берегу реки, на Кок-шокалаке. Захожу в дом, а там полным-полно гостей: чабаны – соседи Садыка, братья Ескали и Доскали, Красноглазый Окас, наш заведующий фермой Шардарбек, остальных не упомню, слишком уж много было народу. Овца зарезана, разговоры горячие, водка, карты. «Надо же, как славно, на ловца и зверь бежит», —подумал я и присоединился к ним. В кармане – деньги за проданных коней, оттого, видать, и уверенность в себе необычайная, когда сели играть в карты. И не спрашивай, как удача пришла ко мне. Тут уж я ее – родимую, из рук не выпускал. Так, играя и выигрывая, к обеду я и набил деньгами полную пазуху. Поели, водкой запивая нежное мясо мархи. Короче, чтоб не морочить вам головы, после обеда вскочил я на своего Каракаску и отправился домой. Солнце уже к закату катилось, но сумерки еще не сгустились. Подъехал я к переправе, а паромщика нет – паром стоит на другом берегу реки. Кричал я, кричал, никто не отзывается. Было это в конце апреля. Сырдарья разлилась, что твое море – краев не видать. Бес меня попутал, то ли водкой возбужденный, то ли полными карманами денег, принял я безрассудное решение. Полоснул коня пару раз камчой и направил его в воду. Поначалу бедная моя коняга фыркала, боясь вступить в бурлящую реку, но, видимо, камча вынудила, вошла все-таки в воду. Как вспомню тот свой поступок, так до сих пор волосы на макушке дыбом встают.
Каракаска, пофыркивая, плывет вперед. Однако другой берег все никак не приближается. Миновав половину реки, конь стал уставать. Хмель мой, конечно, выветрился тут же, губами только кое-как шевелю, взывая к всевышнему о чуде… Ох, никогда прежде такого страха не испытывал – решил, вот она, смерт за мной пришла. Но Каракаска был конь сильный и отчаянный – вывез все же он меня на другой берег. Течение, что ни говори, сильное. Для тебя ложь, для меня правда сущая, отнесло нас от переправы аж до самого Тассаута. Посчитай сам, по меньшей мере версты три-четыре будет. Мокрый до ниточки, добрался к полуночи до дома.
Увлеченный рассказом так, что и еда забылась, Казантай спохватился и одним махом опрокинул пиалу водки, прихлебнул айрана и снова обратился к старику.
– Оу, Усеке! А мы-то и не знали, какой вы у нас отчаянный храбрец. Только самый бесстрашный из бестрашных способен на подобные подвиги. Надо думать, что вы пожертвовали на святые места хоть что-нибудь из тех денег, что оттопыривали ваши карманы.
Рыжий старик тонко рассмеялся.
– У, окаянный! И что тебе за дело до святых мест?
– Особых дел нет, конечно, но все-таки…
– А вот этого я нынче уже и не припомню.
Казантай, изобразив крайне удрученный вид, покачал головой.
– Эх, дяюшка, сдается мне, что вы-таки ничего не пожертвовали.
И старик, и Корганбек невольно рассмеялись.
– Э, да у тебя, гляжу, негодника язык-то с подвохом, – отметил Ускенбай, явно не скрывая, что доволен племянником.
– Эх, голубчики вы мои, разное пришлось пережить, да всего уж не упомнишь…
– Дядюшка, а что значит прозвище Желтый самовар – Рыжий Садык, – спросил Казантай, вновь разливая водку в две пиалы.
– А то, что народ наш горазд на всяки прозвища. Покойный Садык был отчаянным чаелюбом. В доме его стоял специально купленный на базаре в акмечети большущий самовар. Я такого самоварища больше нигде не видывал. Отсюда и прозвище – Желтый самовар. Да и сам Садык по тем временам был рыжим, что спелая тыква. Нам он приходился жезде. Человеком он слыл радушным, широкой души. Пошучивали мы порой над ним. Спрошу, бывало: «Ау, жезде! Этот желтый самовар у вас постоянно кипит. Прямо жаль беднягу». А он мне: «Эй, недотепа! В словах твоих нет ни капли разума, иначе не стал бы ты мучиться из-за кипящей божьей воды, как не мучился, отдавая мне в жены свою сестру!». А сам хохочет. В шутках он никому спуску не давал. И вообще, скажу я тебе, народная молва – сокровищница слова. И Сары Кулмамбетияра позже прозвали Еркесары – Рыжий баловень. Когда угостились мы тем барашком, что бедняга Тинали зарезал в знак прощения своего, и стояли во дворе, кто покуривал, кто поплевыл да поковыривал в зубах, аксакал Молыбай вдруг усмехнулся про себя. «Чему вы смеетесь, Молдеке?» – спросили мы.
«Смеюсь я поступку этого негодника Сары, – отвечает. – В прежние времена народ оказывал почести и дарил чапан победителю, а у него все наоборот вышло. А потому, скажу я вам, не прост наш Сары. Не зря ведь его дальний предок Жанболай – батыр. Сердце у него храброе – как бы то ни было, хоть и слукавил, но победу-то он празднует, а не Тинали. Раньше я звал его про себя Жамансары, теперь же беру это прозвище обратно. А вы отныне зовите его Еркесары!..».
С той поры народ стал звать сына Кулмамбетияра Еркесары.
– Да, многого мы порой не замечаем вокруг… – покачал головой Казантай. – Признаться, я о старушке впервые слышу.
– Потому и говорят в народе: «Дольше проживешь, больше узнаешь», – ответил старик.
– Усеке. Еще кое-что о Еркесары хочу вас спросить. В нашем ауле много рыжих. В чем тут, по-вашему, причина, – спросил Казантай в надежде на новый рассказ.
Старик неторопливо потянулся к туго набитой табакерке, подхватил щепотку буро-зеленого насвая, заложил за губу и на минуту задумался.
– Тоже найдешь о чем спросить, – ответил он, подетски невинно улыбаясь морщинистым лицом. – Дальние предки наши Есмамбет и Жанболат, говорят, оба были рыжими. Мы же от них свой род ведем, потому, верно, и рыжие.
– И в самом деле. Вот тебе и разгадка, – удивившись своей недогадливости, произнес Казантай. – А ты, Корганбек, как думаешь?
Корганбек лишь улыбнулся на это, не ответив. Старик перевел испытывающий взгляд белесых глаз на гостя.
– Свет мой, ученье ли в городе тебя утомило? Лицо у тебя усталое, молчишь все. Слышал от аулчан наших, что в газеты ты пишешь. Рассказал бы чего.
– Да они, дядюшка, в отличие от нас, много не говорят. Все больше других слушают, а потом быстренько печатают услышанное от своего имени в газетах, – подковырнул Казантай.
Корганбек смущенно заерзал. Но что толкового может он им рассказать – повидавшему многое и умудренному рыжему старику и своему бывшему однокласснику, который, хотя и не пишет в газеты, но живя среди народа, поднаторел и в разговорах, и в рассказах. Да и доверится ему на слово в чем-либо Казантай, поверит ли Усеке?
– Уважаемый, а каковы нынче всходы? – спросил Корганбек, которому молчать дольше было уже неловко.
– О всходах и не спрашивай… – Усеке с досадой сплюнул насвай, сполоснул рот из стоящего рядом тонкошеего кумгана. – С тех пор, как стала мелеть река, ушла отсюда и благодать. Рис стал бедой нашей, выпивая воду, которой и без того мало. Летом вода реки, для вас ложь, для меня – сущая правда, загнивает. Ибо нет течения. Немного ниже, в селения, появилась эпидемия желтухи. Умирают некоторые. И все это из-за гнилой воды – доктора так говорят. С тех пор, как стал мелеть Арал, здесь перестали собираться тучи. Еще май не завершился, а трава на холмах и на побережье уже пожелтела, высохла. Влаги нет. В июне, как ветер поднимается, вся степь покрывается пылью. У этого народа есть дети на руководящих постах. Но, то ли сказать толково не могут – вот загадка. И рис – один из источников благ наших, кто ж этого не знает, перестал быть для нас благом, обернувшись бедой для земли нашей, сынок.
Старик закончил, и все трое погрузились в молчание. Ленивое весеннее солнце склонилось с зенита к западу. Время за польден.
– Ну, теперь, если разрешите, дядюшка, мы тронемся, – произнес Казантай с легким вздохом. – На вечер пригласил к себе друзей и сослуживцев, чтоб они с Корганбеком встретились. Времени уже немало.
Ускенбай, сложив раскрытые ладони, благословил их.
– Разрешение – от Аллаха, дорогие мои. От меня лишь доброе напутствие, – произнес он. – Повидав вас, и я изрядно воспрял духом. Сын Катепа, ты сказал не давно: «Племянник – не родня, жилы – не еда». А я тебе скажу: «Почему бы племяннику не быть родней, если он стоящий человек, почему бы жилам не быть едой, если на них есть мясо». Вон пасутся около трех десятков овец и коз. Это и есть моя скотина. Возьми любую из них, положи к себе в машину. Дома угостишь мать свежим бульоном. И сын Айдеке, гость твоего дома, пусть отведает. Видишь сам, дома старухи нет, иначе попотчевали бы вас, как положено. А вы не забывайте, вспоминайте порой, что живет здесь старичок такой вредный, если удастся, то и заглядывайте.
Казантай покраснел от смущения.
– Ойбай! Не нужно овцы, дядюшка, – сказал он суетясь. – Это нам следует привозить вам, а брать у вас стыдно. Спасибо за радушие! Если придется в следующий раз проезжать мимо, то непременно загляну к вам. А этот ваш зять далековато все-таки живет.
– Ну, будьте здоровы в любых краях. – Старик поднялся с места, отряхивая полы чекменя. – Предложил взять овцу, не взяли, тогда уж довольствуйтесь тем, что было. А мои помыслы чисты, и к пустословию я не привык.
Распрощавшись, джигиты сели в машину. В это время снова раздался голос старика.
– Эй, Казантай, если твои мышеловы поедут в нашу сторону, передай и для нас отравы. Говорят, если кулан свалится в колодец, то лягушка прыгает по его ушам. Так и здесь, в ауле, стало полно мышей, житья от них нет. Не забудь моей просьбы.
– Хорошо, дядюшка, не забуду, – ответил Казантай, высунув голову в дверное оконце. – Ну, будьте здоровы…
Машина легко сорвалась с места. Старик постоял еще, провожая их взглядом и повернулся к дому.
– Молодец, старик! —покачал головой Казантай, отъехав от аула. – Рассказывает – заслушаешься. Да и крепок все еще. Эх, дома два мешка картошки лежат, надо было перед поездкой положить один в машину. Для них картошка – редкая пища.
Корганбек задумался. «Кто знает, может быть, для существования и нужен мешок картошки. Но этого старика одним лишь добром не удовлетворишь. Широкодушен старик и помыслы его, и надежды широки». И тоска по отчей земле и нежелание расставаться с ней, распирают Корганбека как Сырдарью в пору ледохода, и оттого побаливает сердце.
Вокруг царит покой и тишина. Лишь в открытые створки окна машины врывается неугомонный ветер. Бескрайняя степь, прижавшая к своей груди кудрявые барханы и обширные ложбины, лежит с опущенной головой, словно ребенок, обидевшийся на родителей.
На чужом пиру
Култай, опираясь на локти, растянулся на самой макушке ковыльного холма, возвышающевося посреди раздольной равнины. Время от времени, вытянув шею, юноша внимательно оглядывает рассыпавшуюся по степи отару. Часть овец уже ушла далеко до самой возвышенности Коспактюбе, туда, где темнеют ее верблюжьи очертания. Правда, неудержимо стремительные с утра овцы, утолив первый голод сочной, не тронутой копытами травой, теперь уже не двигались, а жадно паслись на одном месте.
«Пусть себе пасутся…» – Култай не спешил заворачивать отару.
У подножья холма пощипывал траву гнедой мерин под седлом. Судя по тому, что хозяин даже не спутал коню ноги, нрав у него должно быть смирный и покорный. С восходом солнца гнедой не успевал отмахиваться от донимавших его серых большеголовых слепней величиной с добрых жуков.
Позднее утро. Рябоватое июльское солнце, поднявшись над землей, повисло над гребнями белесых барханов и наполнило сонным теплом эти безлюдные пески. Вдали у кромки горизонта, как пенка добротного катыка, подрагивало легкое марево. Там и сям торчали редкие кусты саксаула. Среди выжженной суховеем и зноем травы ярко зеленел единственный куст тамариска. На его веточке уже давно сидела крохотная синичка, видимо, свившая гнездышко в густой тени. Издалека, со стороны железнодорожного разъезда, донесся лязг вздрогнувшего тяжелого грузового состава.
Култай, с непонятной ему самому грустью, захлопнул толстую книгу с истертой обложкой. Перестук тяжелого состава стал постепенно слабеть и гаснуть. Вскоре за горизонтом исчез и сам поезд, оставив после себя лишь облачко дыма, лохматое, как клок овечьей шерсти.
Култай ощутил себя совсем одиноким. Он привык провожать взглядом идущие мимо поезда. И этот удаляющийся состав тоже пронзил его сердце щемящей грустью.
В школьные годы Култай всегда с нетерпением ждал того момента, когда надо было возвращаться из надоевшего интерната в далекий чабанский аул. Особенно с приближением летних каникул сон покидал его, он тосковал по простору, усеянному весенними цветами, торопил минуты и худел прямо на глазах. Стоило ему вспомнить темные юрты, дремлющие под лунным небом, кисловатый запах овечьего пота и залежалого навоза, которым надолго наполнялся воздух после самого легкого дуновения со стороны отары, с хрустом и чмоканьем жующей свою жвачку, как мальчишеское сердце начинало бешено колотиться, словно ему становилось тесно в груди. И потом, уже после возвращения в аул, в Култае долго не гас этот огонь ожидания, и он ходил как в полусне, не в силах поверить в наступление этих счастливых и пьянящих дней.
На следующий же день после возвращения Култай нахлобучивал до самых ушей старую измятую киргизскую шапку отца и уходил с отарой. Только за одно это уже мальчик был несказанно благодарен своей судьбе.
Удивительно, но в ту пору Култай совершенно не ведал чувства одиночества или тоски, как это происходит теперь.
Глазастый, смуглый мальчонка всегда умел найти себя в безлюдной степи какую-нибудь забаву. Особенно любил он, завернув немного в сторону отару, ходить вдоль железнодорожного полотна, вытянувшегося по просторной степи, сияя рельсами, как двумя туго натянутыми струнами домбры.
«Наверное, нет в мире людей богаче пассажиров. Небось, и едят самые лучшие блюда, и курят самый лучший табак, – думал мальчик, с любопытством разглядывая щедро рассыпанные по обочине яркие консервные банки, блестящие коробки из-под конфет и сигарет. – Иначе откуда бы взяться у них таким чудесным вещам».
Жалко было выбрасывать эти разноцветные коробки, и Култай подолгу разгядывал их со всех сторон. Тщательно изучал он каждую надпись. Болгария, Венгрия… а на банках даже встречалось название далекой и сказочной страны Индии, где царит вечное лето.
«Удивително, как они сумели собрать вещи со всего света. Точно, в поездках ездят самые богатые и щедрые люди». Откуда было степному мальчонке знать о всемогуществе экспорта и импорта… Чего только он здесь не находил. Даже деньги один раз нашел. Шел он как-то по обочине, и вдруг увидел красневшую под кустиком десятирублевку. Вначале мальчик не поверил своим глазам. Такой необычной находки у него ни разу прежде не случалось. В тот день Култай еле дождался вечера. И пригнав отару в аул, радуясь так, словно обнаружил кусок золота с лошадиную голову, торжественно вручил матери свою необычную находку. Гордость так и распирала его.
– Душа моя, что же это? – ничего не поняла сначала мать. – Где же взял ты ее?
– Нашел! Прямо около железной дороги, – выпалил Култай, не в силах скрыть своей радости.
Матери это не понравилось.
– Ах, негодник! Что ты там потерял на рельсах? А если паровоз тебя задавит? – В это время, согнав овец в кучу, вошел в юрту и отец. Мать тут же обратилась к нему.
– Погляди, отец, на этого негодника. Оказывается, он по железной дороге шляется. А если случится, как в прошлом году с сыном Ермахана…
– Ладно, не причитай…, – и без того суровое лицо отца совсем потемнело. – Нет божьего платочка на твой роточек…
Хотя нашелся заступник, буйная радость и возбуждение Култая угасли, как пламя, залитое водой. Как бы там ни было, затих мальчонка затаив в душе еще одну грустинку.
Несмотря на запрет матери, Култай и после этого не переставал бродить по обочине железной дороги. Провожать проходящие мимо поезда теперь стало для него привычкой. Самыми счастливыми людьми в мире казались ему железнодорожные пассажиры. «Эх, сесть бы на один из них и проехать по всему белому свету», – мечтал мальчишка, глядя вслед зеленым вагонам, растворявшимся за линией горизонта.
Сейчас Култаю двадцать с лишным лет. Но тяга его к поездам не уменшилась. Правда, с тех пор ему приходилось и на поезде несколько раз ездить. Но не дальше областного центра. И то в пятом классе разболелись уши, местные врачи не смогли установить причины, и отец возил его на лечение. Из-за того, что время лечения просрочили, левое ухо и теперь слышит плохо. По словам врача, оно было простужено еще в младенчестве.
Областная больница лечила Култая долго. В тот год ему пришлось остаться в том же классе. Осенью, когда он пришел в школу, ребята уже досконально знали всю историю болезни его уха.
Не выдержав унизительного прозвища «глухой», Култай в осеннюю стужу за одну ночь сбежал в свой аул, расположенный в сорока километрах от совхозного центра. По дороге он плакал навзрыд.
В тот раз его на машине догнали воспитатели интерната и вернули с полпути. Но, сводя постоянно на нет труды воспитателей, Култай стал все чаще сбегать по ночам. Не слушался ни выговоров, ни уговоров, лишь молчал, насупясь. К тому же, если другие дети с каждым годом привыкали к интернату, сроднились с ним, Култай, чем старше он становился, тем сильнее тосковал по степи, по родителям, и тоска эта превратилась во внутреннее бунтарство, неподвластное никакой силе. В конце концов с этим смирились и воспитатели, и родители. В тринадцать лет Култай покинул школу, бросил учебу, оставил шумную поселковую жизнь и ушел с чабанским аулом в степь…
Позже из-за этого уха его не взяли в армию. Мечта о путешествии на поезде вокруг света на этом вроде и кончилась. После пятого класса он ни разу и в областной центр не ездил. Конечно, можно было бы съездить в гости. Там живет старший брат Култая. Давно уже семьей обзавелся. У него жена, трое детей. Сам работает механиком в автопарке. Но и к нему Култаю как-то не удается съездить.
Да и брат хорош. Мешками увозит мясо, когда забивают на зиму лошадей, которых растит Култай, а ни разу не догадался пригласить его в гости. Вообще, если не считать, что единокровные, оба они разные и по характеру, и по обличью. Один – шустрый, умеющий приспособиться к течению времени, другой – чистый, как вода, сбежавшая из русла весной и отделившаяся от реки в озерце. Старший брат щуплый, уши просвечиваются, и рыжий, младший – кряжистый и угловатый, как саксаул в песках, и смуглый. И младший братишка Култая, кончающий нынче десятилетку, тоже рыжий, похож на старшего брата. Он такой же шустренький, даже Култая, который старше его нас шесть лет, поучает.
«Он тоже, пожалуй, здесь не задержится, – с огорчением подумал Култай. – Говорит же: „Поступлю учиться, а не смогу, на завод пойду. Что здесь делать, тишь да глушь… и ничего больше. Култай, как ты до сих пор здесь не свихнулся?“. Да, он здесь никогда не останется, – Култай в душе разозлился на обоих братьев. – Ну, не останется, так скатертью дорожка, пусть убираются…».
Из родственников он теплей, чем к другим, относится к сестренке, живет она в совхозе, замужем. Култай часто навещает ее. Что ни говори, а надоедает порой однообразный чабанский быть. Молодое трепетное сердце иногда мечется, тоскуя по друзьям и подругам, с которыми рос когда-то, по веселым и радостным вечерам, уютному и теплому дому, а самое главное, по доброму отношению людей. В таких случаях он отправляется на гнедом из зимовья в центр совхоза. Тридцать-сорок километров дл резвого коня не бог весь какая даль: выедет пораньше и уже до полудня на гнедого лают поселковые собаки.
По приезде немедленно ставится чай и начинается долгая беседа с восклицаниями и расспросами до самого вечера.
Вечером же Култай приводит себя в порядок и переодевается. По настоянию сестры снимаются и валенки, и на неуклюжие ноги Култая натягиваются легкие хромовые ботинки. Из своего остается только пышный лисий малахай на голове. Против малахая не возражает и сестра.
К восьми часам Култай, нарядный и счастливый, отправляется в клуб. В клубе довольно холодно, поэтому и посетители редки: в основном школьники, взрослых раз, два и обчелся. В заднем ряду, рассыпавшись, как волосы на висках у плешивого, сидят пять-шесть парней и две-три девушки.
Култай сует стоявшей у входа кассирше трехрублевку, не считая сдачу, входит в темный зал, где идет кино, и опускается на стул. Раз идет кино, то как не порваться ленте. Пока механик ее клеит, загорается свет, т темный зал вдруг озаряется как днем. Зрители, щуря глаза, глядят по сторонам.
Порой Култай встречает в клубе и своих одноклассников…
На другой день Култай просыпается поздно. Долго лежит, блаженствуя, не решаясь покинуть чистую белоснежную постель, постланную сестрой на широкой кровати во внутренней комнате. Потом, нехотя поднявшись, с наслаждением умывается теплой водой. К этому времени, пыхтя, появляется и самовар. Оба опять долго пьют чай со сливками. А затем Култай некоторое время смотрит телевизор или возит на себе полуторагодовалого племянника. После обеда идет в баню.
Через два-три дня, проведенных у сестры, юноша начинает скучать. На душе становится неспокойно и он собирается возвращаться.
Перед отъездом заходит в совхозную кассу за зарплатой. Небрежно сунув в задний карман брюк пачку денег, шагает к магазину. Набивает обе сумы коржуна заказами матери и после обеда седлает гнедого. До сумерек уже добирается до одинокого зимовья в песках. Вечером выходит навстречу ушедшему с отарой отцу и помагает загнать овец. Отец, сначала делая вид, что не заметил его, молча идет с противоположного от Култая края отары. Не спешит поздороваться и Култай.
– Что так быстро вернулся? – говорит наконец невольно приблизившийся отец, очищая усы от намерзшего инея. Сын, не зная что ответить, опускает взгляд. Старик, молча оглядывая сына, некоторое время идет рядом, затем, отвернувшись незаметно для него, тихо вздыхает. «Ну, в следующий раз целых десять дней там проведу», – решает он, жалея, что вернулся быстро.
Отец через некоторое время снова заговаривает с ним. Но голос его звучит мягче, чем до этого.
– Как у Карлыгаш, все здоровы? Малыш как?.. вырос хоть? В тот раз, когда я ездил, был совсем с кулачок.
– Вырос.
Затем оба замолкают…
…Начало отары перевалило за Коспактюбе. Часть овец повернула на восток. Возглавила их всегда свое-нравная серая коза.
«Нет, пора заворачивать… И солнце, гляди, поднялось изрядно».
Култай, потягиваясь, поднялся, стряхнул широкой, как лопата, ладонью приставшие к одежде песчинки. Затем взял чуть не забытую книгу и засунул ее за пазуху.
Гнедой отошел не слишком далеко.
***
На вороте для воды урчал небольшой мотор, укрепленный на четырех лежачих бревнах. Начало измученной жарой отары давно уже дошло до аула. Отец наводил «порядок», отгоняя палкой отчаянно лезших в цементное корыто овец. Култай медленно сполз с гнедого и вынул удила изо рта нетерпеливо рвавшегося к воде коня. Распустил заднюю подпругу и затянул заново.
– О коне я сам позабочусь. Иди домой, попей чаю, – сказал старик, забирая повод гнедого. – Ескали на свадьбу пригласил.
Култай удивленно глянул на отца.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе