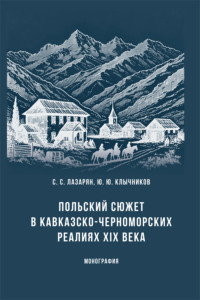Читать книгу: «Польский сюжет в кавказско-черноморских реалиях XIX века», страница 3
1.2. Северокавказские рубежи Российской империи
Весьма популярная в последнее время и неоднозначно трактуемая идея «русского мира», возможно, никогда не будет иметь четко артикулируемой формулировки, т. к. вынуждена учитывать самые разные, порой конфликтующие факторы76. Можно даже утверждать, что эта социокультурная общность давно переросла этнические рамки, а скорее всего и никогда не была «собственностью» лишь русского этноса. В силу объективных причин она формировалась как многонародная симфония, в которой находили свою нишу представители разных этнических групп со своими языками, конфессиональными особенностями, ментальными установками и традициями.
В этой связи весьма показательно выглядят взаимоотношения славяно-русской общности с автохтонными народами Северного Кавказа, которые, по большей части, характеризовались и имели форму сотрудничества-соперничества, своеобразного партнерства-сосуществования, которое имело корни в отдаленном прошлом. Несмотря на переживаемые время от времени противоречия и столкновения такое симбиотическое сосуществование в итоге значительно усиливало все стороны постепенно развивавшегося межкультурного диалога, позволяло успешно противостоять общим вызовам и угрозам.
Формирование русско-северокавказской общности явилось длительным процессом, занявшим не одно столетие и получившим устойчивую направленность со времени усиления Московского царства. Держава Ивана IV демонстрировала успехи в реализации своих внешнеполитических интересов, поступательно продвигалась, в том числе, в южном направлении и начинала выглядеть в глазах менее преуспевавших соседей как привлекательный субъект-покровитель, способный оказать поддержку в нейтрализации агрессивных притязаний Крымского ханства.
В свою очередь, Москва была заинтересована в усилении своего военно-политического потенциала, а потому достаточно благосклонно относилась к просьбам о подданстве со стороны северокавказских народов. Итогом переговоров с прибывшими в 1552 г. посланниками от западноадыгских обществ стала поездка на Северный Кавказ представителя Москвы Андрея Щепотьева, который должен был на месте разобраться в готовности черкесских племен присягнуть в подданство русскому царю. Вернувшийся летом 1555 г., посол привез известия об их присяге «всей землей» великому государю77.
В тех исторических обстоятельствах речь шла скорее о военном покровительстве, предоставленном или обещанном Москвой для части местных сообществ. Это событие можно трактовать как важный шаг на первоначальном пути формирования российского Кавказа. По крайней мере, оно указывало на наличие у обеих сторон взаимного интереса к сближению, хотя и не отменяло противоречий, которые почти сразу возникли между участниками начинавшегося диалога. Каждая сторона стремилась сохранять и продвигать собственные интересы, и это нередко перевешивало ценность выстраиваемого сюзеренитета. Даваемые местными владельцами присяги довольно легко нарушались, тем более что и сам покровитель далеко не всегда мог выполнять взятые на себя обязательства по защите новоприобретенных подданных от разнообразных угроз.
Северокавказское этнополитическое пространство отличалось пестротой и значительным внутренним конфликтным потенциалом. Региональные лидеры весьма ревниво следили за успехами друг друга и были готовы стать на сторону той силы, которая была враждебна их конкуренту. Альтернативой пророссийскому выбору был турецко-крымский вариант вассалитета, которым можно было шантажировать Москву. Этот устойчивый фактор определял причудливые коллизии русско-горского симбиотического партнерства, делая вчерашних друзей врагами, а непримиримых противников – верными подданными78.
Достаточно устойчивый альянс сложился у Москвы с кабардинским князем Темрюком Идаровым. Помимо участия в совместных походах, он стал еще и тестем царя Ивана IV, выдав за него свою дочь Марию79. Сам факт женитьбы говорит о достаточно высоком авторитете местных владельцев в глазах царя, который весьма щепетильно относился к своему статусу и не стал бы связывать судьбу с недостаточно влиятельной фамилией. Кроме того, Россия получала формальное право своего присутствия в крае, тем более что и сам Темрюк просил прислать к нему отряд с «огненным боем» на постоянной основе. В 1567 г. на левом берегу реки Тетек против устья реки Сунжи был возведен Терский городок, с которого началась практика фортификационного закрепления за Россией нового пограничья80. В дальнейшем это получило логическое продолжение в строительстве Кавказской кордонной линии. Подобная практика сохранялась вплоть до середины XIX столетия, став неотъемлемой частью российской политической стратегии в регионе.
Присутствие русских вооруженных сил сулило определенные перспективы для тех обществ, которые до этого были оттеснены на периферию местной жизни, фактически заперты в горах. Примечательно, что под защитой гарнизона Терской крепости достаточно быстро начинает формироваться располагавшаяся поблизости полиэтническая слобода, и новые местные владельцы выражали готовность присягать русскому царю81. Их приверженность Москве подтверждалась на поле брани и в помощи российским дипломатическим миссиям, которые периодически посещали Кавказ.
Политическая активность русско-северокавказских отношений сохранялась неизменно вплоть до начала Смутного времени, когда поставленная на грань выживания Россия, была вынуждена ограничить свое присутствие в крае. Но даже в этот непростой период на Северном Кавказе сохранялись силы, которые продолжали придерживаться пророссийской ориентации82. Постепенно восстанавливаясь после затяжного социально-политического и династического кризиса, осложненного иностранным вмешательством, Московское царство в первой половине XVII в. вновь начинает уделять внимание далеким северокавказским рубежам. Убедившись, что здесь не приходится ожидать консолидированной позиции со стороны местных центров силы, Москва выстраивает диалог с теми представителями местной элиты, которые демонстрируют свою состоятельность и готовность к сотрудничеству.
Внутрирегиональное соперничество в северокавказском крае продолжало сохраняться даже при наличии общего сюзерена, власть которого не снимала имеющихся местных противоречий. Предпринимаемые дипломатические усилия не всегда способствовали примирению конфликтующих сторон, а потому рассчитывать на стабильность и предсказуемость ситуации в крае без наращивания там своих военных ресурсов не приходилось, тем более что Кавказ постоянно находился в поле зрения геополитических конкурентов России в лице Персии и Оттоманской Порты.
Новый этап в русско-северокавказском сближении был связан со временем правления Петра I, когда российский император, рассчитывавший на создание нового транзитного маршрута на Восток, организовал в 1722 г. поход на Каспий83. И хотя первоначальный замысел оказался неосуществим, важность укрепления позиций империи на кавказском рубеже не оспаривалась. Даже уступив значительную часть завоеваний Петра Великого, его преемники продолжали увеличивать здесь военное присутствие. Знаковым событием стало основание в 1735 г. города-крепости Кизляра ‒ форпоста империи на Северо-Восточном Кавказе84. Создавались новые условия для экономического и социокультурного освоения региона Россией.
Укрепление позиций России в регионе вызывало нервную реакцию в столицах Персии и Османской империи. Потому российским уполномоченным на Кавказе приходилось действовать в условиях весьма жесткого противодействия со стороны геополитических конкурентов. Персы и турки имели немало сторонников среди местного населения, готовых вооруженной рукой поддержать своих покровителей-единоверцев. Одновременно у местных элит появлялась возможность для маневра в политико-дипломатической игре, воспользовавшись противоречиями между крупными игроками «кавказского треугольника», добиваться выгодных условий для ситуативного сотрудничества.
Специфичность ситуации заключалась в том, что на умонастроения горских владельцев в силу их исторического опыта, сильное воздействие оказывали военные победы и демонстрация силы со стороны потенциального покровителя. Военные успехи России в кавказском крае привели к тому, что в Петербурге в течение всего XVIII столетия нередко можно было видеть делегации от различных северокавказских обществ, которые искали там покровительства российских монархов и высказывали желание присягнуть на верность империи. Как правило, встречали их весьма благожелательно, но весьма сдержанно и избирательно решались удовлетворять высказываемые просьбы. Будучи заинтересованным в лояльности местных племен, российское правительство одновременно осознавало и просчитывало возможные издержки, которые могли последовать за каждым неверным шагом85. Наконец ожидаемые пользы могли не оправдать издержек и грозили репутационными потерями, превышавшими по своей совокупности потенциальные приобретения. Кроме того, опыт общения с горскими владельцами останавливал царскую отзывчивость, поскольку хорошо знали их неустойчивость и легковесное отношение к неминуемым обязательствам перед российским государством.
В 1777 г. начинается возведение правильной военной Азово-Моздокской линии, состоящей из 10 крепостей, предназначенных для пресечения возможных прорывов из Закубанья турок и их горских союзников86. Стремление османского руководства вернуть потерянное влияние на Кавказе и в Причерноморье для Петербурга секретом не являлось, а потому там не исключали возможность новой войны с турками. Столичные власти требовали от кавказского военного начальства ускоренной работы по возведению кордонной линии, чтобы прочно армировать российское пограничье, постепенно заселяемое лояльными подданными, поскольку горцы также были слишком опасными противниками, чтобы позволить относиться к ним легковесно и без должного опасения.
Реализация этого проекта имела серьезные издержки, т. к. неминуемо встретила недовольство со стороны части местной элиты. Кабардинские владельцы не без оснований опасались, что наличие российских военных сил перечеркнет их стремление позиционировать себя в качестве региональных лидеров, которые брали на себя заманчивую роль ретранслятора между империей и местными народами со всеми присущими такому статусу преференциями и финансово-политическими выгодами.
Начавшаяся в 1787 г. новая война с Турцией продемонстрировала своевременность и оправданность шагов российского правительства. И в дальнейшем эта практика была продолжена, став частью стратегии России по распространению своей власти на весь регион Северного Кавказа. Процесс модернизационного преображения Северного Кавказа, начатый Российской империей по мере освоения новых южных территорий, имел разноплановый характер. Среди предпринимаемых усилий большое значение придавалось урбанизации региона, что в перспективе должно было обеспечить создание новой модели социокультурных отношений, потеснить присущую местным горским сообществам архаичную локальность.
Действовать приходилось буквально «с чистого листа», т. к. в регионе в прошлом отсутствовали городские центры как таковые и к ним не было местных предпосылок. Существовавшие крупные поселения не имели всех необходимых городу и городскому образу жизни черт, т. е. не аккумулировали хозяйственные, политические, культовые и административные функции, которые и делают населенный пункт городом. Не были застроены зданиями различного назначения, которые «вносят новую пластическую и смысловую интонацию в общую атмосферу городской жизни»87. Соответственно, городская культура с присущим ей приоритетом надэтнических ценностей отсутствовала88.
Привнося городской образ жизни, империя наносила удар по местному традиционализму, готовила почву для появления людей, готовых к активной межкультурной коммуникации, на которых в дальнейшем можно было опираться в выстраивании диалога с новыми подданными. В тогдашних реалиях Северного Кавказа урбанистические начала могли водворяться в крае почти единственно усилиями военной колонизации, когда целая цепь фортификационных сооружений протянулась от Каспийского до Азовского морей, заложив основу будущим городским центрам региона. Укрепления сделались стержнем последовавшей потом масштабной казачье-крестьянской колонизации. Частная инициатива и государственная воля совместно приступили к преодолению фронтира (пространства неопределенности) на южнороссийских рубежах. Они вместе с тем порождали новую социально-культурную идентичность, для которой стали присущи черты русского государственного сознания и кавказско-горского кланового патриотизма.
Возведенная кордонная линия позволила обеспечить относительную безопасность для масштабных хозяйственных и социокультурных новаций, которые стали внедряться в местную повседневную практику. Постепенно укрепления начали терять свою военную функцию, на смену которой приходили каждодневные хозяйственные и бытовые приоритеты. Даже сторонние наблюдатели отмечали тот факт, что российские укрепления притягивали к себе горцев, которые стремились укрыться «за гранью дружеских штыков»89. Очень скоро «по всей линии племена, угнетаемые другими, а также отдельные лица, стремящиеся избегнуть мести, пришли под защиту русских и образовали ядро колонии…»90. Все это предопределило специфичные русско-европейские и восточные черты местных городских центров, ставших, помимо прочего, очагами христианско-мусульманской полифонии91.
Российские социентальные ценности – идеи, принципы, идеалы, цели, к которым, по мнению имперского общества, необходимо было стремиться – постепенно перемалывали прежнюю замкнутость и гомогенность, которые были присущи горской ментальности. Азово-Моздокская линия и возникшие на ее основе новые пограничные рубежи в итоге вели к постепенному ослаблению фронтирности на Северном Кавказе, отодвигая и сжимая пространство неопределенности в пользу имперского образа существования.
Следует отметить, что в выстраивании своей северокавказской политики Российская империя в немалой степени оказалась заложницей внешнеполитических факторов. Включение в состав России в 1801 г. Картли-Кахетинского царства фактически не оставляло выбора и принуждало начать открытое противостояние и соперничество с соседними Оттоманской империей и Персидской державой за влияние на Кавказ. Это породило целую серию вооруженного противоборства между ними: русско-персидские войны 1804–1813 гг., 1826–1828 гг.; русско-турецкие войны 1806–1812 гг., 1828–1829 гг., которые позволили России добиться военно-политического доминирования в регионе.
Реакция местных народов на изменения в их жизни в этой связи была нередко враждебной российским усилиям. С приходом русских стали меняться вековые устои, отказываться от которых местные народы и их элиты не выказывали большого желания. По мнению российских администраторов, «всякое нововведение, изменяющее вековые обычаи, чрезвычайно трудно к введению везде, но особенно в здешнем крае, а потому в подобных случаях надобно действовать с большой осторожностью. Насильственные меры не только не принесут добра, но могут иметь очень дурные последствия»92. В реальной жизни для соблюдения разумной осторожности не доставало дальновидности или выдержки, отступавших под напором нетерпения.
Кавказских горских жителей часто в российских военно-политических кругах «считали народом до крайности непостоянным, легковерным, коварным и вероломным потому, что они не хотели исполнять наших требований, несообразных с их понятиями, нравами, обычаями и образом жизни. Мы их порочили потому только, что они не хотели плясать по нашей дудке, звуки которой были для них слишком жестки и оглушительны»93.
Среди факторов, которые болезненно сказывались на предлагаемой и выстраиваемой модели сосуществования, следует упомянуть феномен работорговли и наездничества, имевшие широкое распространение в крае. Уже в античный период регион являлся поставщиком «живого товара»94. В дальнейшем эта практика не только не прекратилась, но и получила новый размах, т. к. существовавший устойчивый рынок сбыта в Оттоманскую Порту подстегивал интерес к такому занятию95. Внутрикавказские потребности в рабстве были невелики, а потому рабов отправляли на продажу за пределы региона. Российская империя, взявшись за освоение края, вынуждена была пресекать такого рода деятельность, как несоответствующую имперскому представлению о гражданском устройстве общественной жизни и христианским заповедям.
Эти особенности местного уклада жизни использовали державы, которые боролись с Россией за доминирование на Кавказе96, они подстрекали горцев продолжать их сопротивление русским нововведениям. Одним из объектов горских набегов сделалась Грузия, где горская экспансия в XVIII в. была одной из причин серьезного социального и экономического кризиса, поставившего ее народ на грань физического существования. Грузинский историк К. А. Бердзенишвили и другие авторы считали, что набеги горцев были явлением, исторически угрожавшим экономическому и культурному развитию Грузии97.
От горских набегов страдали также и достаточно отдаленные от кавказских ущелий территории Турции и Ирана98, провоцируя рост военно-политической напряженности между ними и Россией. По мнению М.М. Блиева, первоначально горское наездничество было «своеобразным способом перераспределения собственности внутри отдельных обществ», а позже, когда вольные сельские общества стали выходить из стадии эгалитарных отношений к иерархическим, «набеги обрели особый размах и явились агрессивным средством собирания собственности»99. Кроме того, набеги были средством социализации и изменения социального статуса для местной молодежи, когда, например, «до того безвестный юноша мог воротиться героем, богачом, человеком влиятельным, идолом красавиц горянок»100.
Была у горского наездничества и третья составляющая – оказывать давление, запугивать и препятствовать России укрепляться на Кавказе. Большие отряды нападали на казачьи станицы, крестьянские села и даже города, жгли и разрушали их, убивали и уводили в плен население. Именно эта сторона наездничества была наиболее неприемлема для России, и она всегда отвечала военными экспедициями в горы – разрушать и жечь горские селения, чтобы неповадно было.
Из Петербурга требовали, чтобы местные кавказские начальники всеми силами препятствовали горцам (лезгинам) нарушать границы Грузии и «иметь недреманное смотрение» за заграничными жителями, особенно приезжавшими из турецких владений по различным надобностям. В российской столице опасались шпионов и подстрекателей101. Британский историк Дональд Рейфилд (Donald Rayfield) утверждает, что «аварские дружины из тысяч воинов бродили по Кахетии и Картли: открытого сражения они избегали, но чинили страшные опустошения»102, а турки стали нанимать лезгин, «чтобы оттеснять русских» не только из Кахетии, но не позволить им напасть на Ахалцихе. Лезгин и других дагестанцев не нужно было долго уговаривать, поскольку они давно «считали Картли, Кахетию и Россию одним и тем же врагом: участились набеги и похищения»103.
Продвижение России в пределы Кавказа, стремление российских властей переформатировать местные нравы по имперским лекалам, попытки нейтрализовать практику наездничества и работорговли привели к затяжному кризису в российско-горских отношениях, вылившемуся в феномен Кавказской войны (1817–1864 гг.), преодолеть который удалось лишь ценой немалых жертв со стороны всех участников противоборства104. Подавлять приверженность к архаике северокавказского традиционализма приходилось силовыми методами. По мере усиления российского присутствия в крае на подконтрольной ей территории размах работорговли и набеговой практики значительно сократился. Посетивший в 1818 г. селение Эндери в Дагестане А.С. Грибоедов отмечал, что там, где некогда «выводили на продажу захваченных людей, – ныне самих продавцов вешают»105.
Инициатором таких мер был «прокуратор Кавказа» генерал А.П. Ермолов, жестко пресекавший работорговлю в крае. Он требовал того же от местных владельцев, которые таким образом должны были доказывать свою лояльность российскому престолу. Благодаря предпринятым усилиям удалось многократно сократить число невольников, вывозившихся в Оттоманскую Порту. Среди них преобладали жители Грузии, но встречались и русские солдаты106. Неудивительно, что, проводя военные экспедиции в горы, генерал требовал от горцев выдать ему всех пленных и беглых, а в случае неповиновения грозил наказать виновников107. Генерал А.П. Ермолов, который к карательным экспедициям прибавил блокаду гор, был последовательным в своих действиях и оказывал ответное грозное давление на противников «с обязательным закреплением замиренных территорий» за русским влиянием108.
Вместе с тем, когда генерал Ермолов считал для себя удобным использовать практику работорговли для оказания давления на непримиримых к русским горцев, он отдавал приказы продавать их в неволю, фактически придерживаясь местных традиций, которые должен был отменять109. Законы империи нередко оказывались невыполнимы в условиях господства архаики, и российские властные структуры вынуждены были принимать это как данность, используя местные традиционные методы в своих целях. Такие случаи, однако, не были правилом, и государство целенаправленно вытесняло торговлю людьми из жизни местных народов. Периодически практиковавшийся русскими захват горцев в плен диктовался необходимостью получить «обменный фонд» для вызволения из плена и рабства собственных соотечественников110.
При данных обстоятельствах иногда случался парадокс по причине неоднозначного восприятия горцами перспективы быть проданными на чужбину. Для многих это был шанс сделать карьеру или повысить свой статус, особенно если речь шла о женщинах, предназначенных для гаремов знатных турок. Об этой особенности местных реалий не раз писали современники, отмечавшие, что «…женщина, которая провела свою молодость в гареме богатого перса или турка, возвратясь в свою родную страну, одетая во все свои наряды, никогда не перестает возбуждать в памяти ее юных подруг желание последовать ее примеру…»111.
Из-за действий России «вследствие ограниченной торговли между жителями Кавказа и их старыми друзьями, турками и персами, цена женщин значительно упала; те родители, у которых полный дом девочек, оплакивают это с таким отчаянием, как купец грустит об оптовом магазине, полном непроданных товаров»112. Потому, когда происходило освобождение невольников из рук контрабандистов, часть горянок, отвозимых на продажу, вместо слов благодарности набрасывались в гневе на русских моряков с кулаками и даже готовы были от досады покончить с собой.
Российские власти освобождали рабов не только во время проведения военных экспедиций. Широко практиковался обмен и выкуп несчастных, причем нередко шли на неэквивалентный обмен, лишь бы добиться результата. Впрочем, усилия чиновников были не столь эффективны, как частная инициатива. Как правило, действовать старались через посредников, которые пользовались доверием обеих сторон. Очень часто к этой деятельности подключали армянских купцов, которые имели обширные связи по обе стороны Линии113. За такую деятельность они нередко награждались медалями, которые весьма ценились между ними114.
Помощь и защиту беглецам, которые смогли сами вырваться из плена, оказывали независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. Об этом знали и стремились укрыться в российских пределах невольники, захваченные не только на территории самой империи, но и в сопредельных странах. Еще до присоединения Грузии, которая немало претерпела от горских набегов, ее подданные, оказавшиеся в рабстве, пробирались к русским станицам и укреплениям. Так нашел спасение будущий автор поэмы «Бедствия Грузии» Давид Гурамишвили, захваченный примерно в 1728 г. партией горских «хищников», но сумевший бежать и после тяжелейших испытаний вышедший к Тереку. О перенесенных злоключениях он позднее рассказал в стихах, посвященных нелегкой судьбе своей Отчизны115.
Судьбы большинства пленников были мало известны широкой общественности. О них знали лишь близкие и те, кто по долгу службы обязан был заниматься данной проблемой. Но в ряде случаев похищения получали широкий резонанс. Так стало известно о захвате в плен княгинь А.И. Чавчавадзе и В.И. Орбелиани, которые стали жертвой вторжения отрядов Шамиля в Грузию. Вопрос об их освобождении обсуждался на самом высоком уровне. Чтобы освободить знатных невольников их обменяли на сына Шамиля – Джамалуддина, который в свое время был выдан российским властям в качестве заложника-аманата. Другим жертвам набега горцев повезло меньше, и они остались в плену116.
После формального присоединения Кавказа к Российской империи практика работорговли хотя и была ограничена, но полностью изжить ее не удавалось. На неподконтрольных территориях по-прежнему томились сотни пленных, которых горцы, пользуясь услугами контрабандистов, пытались переправить в Турцию117.
Зная об этом, контрабандисты стремились всячески скрывать информацию о том, какой товар они вывозят с кавказского побережья. Нередко, видя, что не успевают скрыться от преследования, они избавлялись от пленников и топили их в море118. Ни военные меры, ни дипломатические усилия России не могли пресечь эту деятельность, которая имела немало покровителей и тайных помощников среди знатных османских сановников119. Некоторые из них сами организовывали каналы по доставке контрабандного товара и занимались продажей людей.
Активно торговали рабами выходцы с Северного Кавказа, которые перебрались в Порту, но сохранили обширные связи среди соплеменников. Они готовы были нести любые издержки, вызванные русской блокадой, т. к. получаемая прибыль с лихвой перекрывали возможные потери груза. Если на кавказском побережье можно было приобрести женщину за 200–800 рублей, то на рынках Турции она уже стоила до 1500 рублей. По данным российских источников на 1837 г., «из Черкесии вывозят ежегодно до 4000 невольников и невольниц в разные места Турции»120. Вплоть до завершения военно-политического покорения региона и массового исхода горцев за пределы империи справиться с этой проблемой российские власти не сумели.
К началу 60-х гг. XIX в. кризис в русско-северокавказских отношениях в немалой степени удалось преодолеть, хотя его рецидивы и продолжали оказывать влияние на ситуацию в крае. Это стоило всем сторонам противостояния значительных демографических и экономических потерь, но – как ни парадоксально – стимулировало процесс межкультурной коммуникации, поскольку с выбыванием наиболее пассионарных приверженцев старины, разрушались социально-культурные крепости и ослаблялась иммунная устойчивость, в целом характерная для местных обществ. Последовавшая вслед за прекращением военных действий череда реформ стимулировала быстрое социально-экономическое развитие Северного Кавказа.
Оборотной стороной тотального обновленчества стал «культурный шок», который испытали местные народы Северного Кавказа, вырванные из привычного, традиционного мироустройства с его архаичным эгалитаризмом. В условиях региона, где еще недавно велись активные военные действия, это вылилось в рост уголовного насилия, которое долго дестабилизировало местную жизнь
Целый ряд причин препятствовал внутриэтнической консолидации северокавказского региона. Господствовавшие там «патриархально-родовые общественные институты не были предназначены для решения «общенациональных» задач. Они обеспечивали единство, управляемость и гармонию на микроуровне общины и ее разновидностей. В более крупных социумах (даже этнически гомогенных) эти архаические механизмы в качестве единого организующего начала не действовали»121. Для этого требовались государственно-политические институты, которые предстояло внедрить в местную почву Российской империи.
Начислим
+35
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе