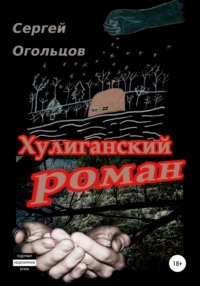Читать книгу: «Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…», страница 18
Фильм крутится. объятый тёплой темнотой, уже сгустившейся вокруг двух-трёх фонарей в аллеях Парка…
В просветах меж непрглядностями в яблоневой листве, помигивают звёзды летнего неба…
На серебряном экране чёрно-белые "Весёлые Ребята" Леонида Утёсова мутузят друг друга барабанами и контрабасами, а в менее уморные моменты запускаешь руку в переплетения яблоневых веток, чтоб нашарить, где-то в районе созвездий Андромеды и Кассиопеи, несъедобное яблочко, и мелко покусывать его твердокаменный, убойно кислый бок, поглядывая на пляшущие ножки Анюты в исполнении Любови Орловой…
После хорошего фильма, ну, как тот, с Родионом Нахапетовым, где нету драк, войны и Немцев, а просто про жизнь, про смерть, про любовь и красивую езду на мотоцикле по морскому мелководью, зрители выходили за ворота Парка, на неровный булыжник в мостовой улицы Будённого, без обычных бандитских посвистов или кошачьих воплей, а притихшей негустой толпой людей умиротворённых, словно бы сроднившихся за сеанс.
И они шли сквозь темень тёплой ночи, редея рядами на раздорожьях в переулки, к одиночному фонарю столба у перекрёстка улиц Богдана Хмельницкого и Профессийной, напротив Базара…
~ ~ ~
Но главное, что делает летнюю пору самым притягательным из времён года, – это, конечно же, купание.
Открытие купального сезона на Кандыбине, в конце мая, – знак наступившего в Конотопе лета.
Кандыбино – это ряд озёр для разведения зеркального карпа, и там же, заодно, берёт начало река Езуч.
Когда-никогда, по разделяющим озёра дамбам, проедет обходчик на велосипеде, чтобы хлопцы не слишком-то браконьерили своими удочками. Однако в одном из озёр карпа не растят, оно отдано на произвол пляжников.
Однако для хождений на Кандыбино, надо сначала знать, как туда дойти. Мать сказала, что хотя девушкой она там и бывала, объяснить всё равно не сможет, а лучше спросить Дядю Толика, который и на работу, и с работы, и везде, фактически, ездит на своей «Яве», уж он-то все дороги знает.
Кандыбино, по его наводке, найти проще простого. Гонишь в Город по Проспекту Мира, за мостом железнодорожной насыпи – первый поворот направо; пропустить невозможно – это шоссейка на Ромны.
Потом прямо, до перекрёстка, и там тоже направо, до железнодорожного шлагбаума, за колеёй – налево, вот оно тебе и Кандыбино…
Младшие, дело ясное, тоже увязались. Мы взяли старое постельное покрывало, чтобы на чём-то загорать, сунули его в сетку-авоську, добавили бутылку с водой, и пошли на Переезд-Путепровод, где начинается Проспект Мира. До железнодорожной насыпи дорога вполне нам известна, после первомайской демонстрации.
Мы прошли под мостом и сразу увидели её, – дорогу вправо вдоль основания крутой высокой насыпи.
Вообще-то на шоссейку она не слишком-то похожа, асфальта нет. Однако довольно широка, к тому же – первая направо. Так что мы свернули и потопали, там дальше перекрёсток должен быть, нет?..
Но чем дальше мы шли, тем у́же становилась дорога, превращалась в широкую тропу вдоль насыпи, потом просто в тропку, а там – и совсем пропала.
Не оставалось ничего другого, как только взобраться на высокую, заросшую травой насыпь, вытряхнуть песок из сандалий, и шагать по шпалам или по бесконечно протяжённой головке рельса. Правда, идти по ней хотя б минуты две – не хватит равновесия, а неравномерно уложенные шпалы из бетона вынуждали делать настолько же неравномерные шаги.
Но мы упорно продолжали путь.
Наташа первой замечала настигавшие нас поезда. Мы сходили на россыпь гравия в обочине, уступая путь слитному грохоту проносящихся вагонов, хлеставших нас тугими клочьями скоростного ветра.
Когда мы дошли до следующего моста, то внизу не оказалось ни проспекта, ни улицы, а только другие железнодорожные пути. Наша насыпь заворачивала вправо, в пологий уклон, параллельно с остальными, к далёкому Вокзалу.
Стало понятно, что мы идём в обратном направлении, а вовсе не на пляж.
Впрочем, приуныть мы не успели, потому что далеко внизу, под нашей насыпью, и под насыпью путей, проложенных под мостом, различили небольшое поле.
Две группы, крохотных на таком расстоянии, ребят в лёгких летних одёжках и с такими же, как у нас, авоськами, шагали к зелёной роще за полем, а и с ними, к тому же, был мяч. Куда же ещё, если не на пляж?
Мы спустились с двух высоких насыпей, и пошли по той же тропе через поле, как и предыдущие ребята, которые давно пропали из виду.
Потом мы миновали Осиновую рощу, с очень удобной для шагания веткой железнодорожного пути, с ровно утоптанной землёй вместо гравия между широких деревянных шпал.
За рощей – шоссе с парой шлагбаумов, задравшихся по обе стороны от колеи.
Перейдя дорогу, мы свернули на широкую, местами вязкую тропу средь поросли ярко-зелёных трав. Грудь расправилась осторожным ликованием: Ага, Кандыбино! Не уйдёшь! Потому что той же тропой шли люди явно пляжного вида, в обоих направлениях, но туда больше, чем обратно.
Тропа вывела к широкому каналу тёмной воды между берегом и невысокой противоположной дамбой рыбных озёр.
Однако на этом она не закончилась, а пошла дальше вдоль берега. Мы шагали по ней среди деревьев, покрытых молодой зелёной листвой, для контраста с белыми облаками и солнцем, в лазурной сини неба.
Правильные ряды фруктовых деревьев ничейно-заброшенного сада взбирались на пологий склон вправо от тропы. А канал слева раздался вскоре в озеро с белым песком вдоль берега.
Несколько Сосен сбились в тенистую группу на пригорке, перед которым песок прибрежной полосы сменялся травой, утоптанной вокруг высоких кустов смородины бесхозного сада.
Мы выбрали свободный кусок травы под наше покрывало, быстренько разделись и – бросились по обжигающе горячему песку к воде, летящей, со всех сторон и по всем направлениям, сверкая брызгами, плеща в лица десятков купальщиков, которые вопили, орали, хохотали и, в безудержном веселье, колошматили Кандыбино до белопенности…
Лето! Ах, Лето!..
Как выяснилось позже, Дядя Толик даже и не знал про ту исчезающую дорогу, вдоль подножия насыпи, ведь его мотоцикл, с рёвом выскочив из-под моста на Проспекте Мира, за две секунды долетал к повороту на Ромны, а ногами там топать метров сто с гаком.
~ ~ ~
В списке фильмов на воскресенье в конце июля стояли «Сыновья Большой Медведицы», так что мы с Чепой уговорились не пропустить это кино, потому что Гойко Митич играл там одного из её сыновей.
Этот Югославский Митич часто снимался краснокожим героем вестернов из ГДР, а при его участии даже от восточных Немцев вполне можно ждать неплохое кино. Правда, в Советском прокате эти вестерны становились чёрно-белыми. Наверное, для экономии цветной плёнки.
Конечно, список не сообщал всех этих подробностей, или вообще хоть что-то, кроме названия и даты показа, однако фильмы добирались до Клуба не раньше, чем через полгода после их недельного показа в Кинотеатре «Мир». На следующую неделю, они перекочёвывали в Кинотеатр им. Воронцова на Площади Конотопских Дивизий. Затем пять-шесть месяцев о них ни слуху ни духу, пока не вынырнут в Доме Культуры им. Луначарского, а значит, через неделю максимум, будут крутиться в Клубе. Но откуда бралось всё остальное для заполнения почти ежедневного проката? Такая загадка не всякому Шерлоку по плечу.
Как бы там ни было, имея кинопосещающих друзей, ты без проблематичности мог принимать взвешенное решение.
Нас как-то не особо тянуло в центральные кинотеатры на свежее кино. Не потому что тише едешь – дальше будешь, и лучше уж дождаться отзыва друзей с их безупречным вкусом. Нет, иногда эти эстеты превозносили полное фуфло.
Причина была куда проще, и вместе с тем весомей – билет в Кинотеатре «Мир» обходился в 50 коп. (плюс трамвайные расходы). За тот же самый фильм в к-те им. Воронцова (спустя неделю) выкладываешь 35 коп. (не считая на трамвай). А терпеливо выждав каких-нибудь два сезона, относишь в Клуб вполне приемлемые 20 коп. Пешком.
Согласен, разница не настолько велика, чтоб ты её почувствовал при посещении кино раз в год. Но если ты фанат волшебного искусства, а деньги на билет просишь у матери…
. .. .
В то воскресенье мы втроём – Куба, Чепа и я – сгоняли на Кандыбино на великах. Там мы поплавали и поныряли, по очереди, с самодельного трамплина, когда двое, стоя по грудь в воде, сплетают руки, чтобы подбросить третьего, который на них влазит, хватаясь за две мокрые головы.
Ну и конечно, в пятнашки поиграли, хотя догнать Кубу под водой, даже мечтать нечего.
Потом он и Чепа куда-то запропастились в толпе купальщиков. Я побродил посреди всех тех брызгов-визгов – нет нигде, как в воду канули.
На всякий, я ещё и на тот берег сплавал, который, заодно, – дамба рыбных озёр. Там пара хлопцев удили, потому что и в купальном тоже клюёт, но при этом, пасли момент закинуть удочки в зеркально-карповый рай за дамбой, когда сторож закончит свой объезд.
Чтоб рыбу им не распугивать, тихо-тихо отплыл я обратно. Ещё раз прочесал толпу в воде… Не-а, без толку… Вот и решил, что хватит уже.
На берег выхожу синий от холода, гусиная кожа пупырьями, не меньше тех смородин, которым даже дозреть не дают. А эта пара оболдуев навстречу мне гарцуют от кустов сада, волосы на головах давно сухие. «К-ку-д-да вы д-де-ли-ся?»
– Мы опять заходим! Погнали!
– Вы ч-чё ч-о-кну-лись? Я т-токо-т-токо вылаж-жу!
– Ну так и шо? Погнали!
– А-а б-блин! П-пагнали н-наши г-га-рад-ских!
И, в три пары ног, взбивая пену всплесков, рванули наперегонки, к местам поглубже – нырять, орать, дуреть…
Лето, оно тем и лето, что лето…
. .. .
Куба в кино не захотел, он этот вестерн уже видел, и Чепа тоже передумал. Но это меня не остановило. Я всё равно решил взять у матери 20 копеек, и сходить на шестичасово́й сеанс.
Пригнал велик во двор, захожу в хату, и Баба Катя мне говорит, что родители два часа как ушли вместе с младшими, и она не знает куда.
Ну, так и что? До следующего сеанса ещё три часа, успеют вернуться…
В конце третьего часа я был раздавлен неодолимой тревогой – ну, где же они могут быть?
И я снова спросил, но уже у Тёти Люды. Та с полнейшим равнодушием (и какой-то даже злостью) ответила: «Да, я бы и тебя не видела». Она всегда такой становится, когда Дядь Толик уезжает на рыбалку.
Прошло ещё два часа, сеанс давно закончился, но, полный предчувствия неизбежной, и даже уже свершившейся катастрофы, я не хотел уже никакого кино.
В приливах растущего отчаяния, мерещились обрывистые картинки грузовика, выскочившего на тротуар, неясно угасающий вой сирены «скорой»…
Одно лишь проступало с полной отчётливостью – у меня больше нет ни родителей, ни сестры с братом.
Наступила ночь. Дядя Толик затормозил перед калиткой, вернувшись с рыбалки, прокатил умолкшую «Яву» через двор, к секции в сарае. Он ушёл в хату, а я, замордованный бедой, расплющенный жерновами горя, так и сидел на траве, рядом с дремлющим Жулькой…
И уже совсем поздно, звякнула клямка калитки. Послышался весёлый голос матери, и Сашка с Наташкой забежали во двор.
Я рванулся навстречу им, разрываемый радостью и обидой:
– Ну где же вы были?!
– В гостях у Дяди Вади,– сказала мать.– А ты что это такой?
Взрыднув, я сбивчиво забормотал про сыновей медведицы и двадцать копеек, потому что не мог объяснить, что мне на целые полдня пришлось остаться круглым сиротой, лицом к лицу с жизнью без всяческой семьи.
– Мог бы попросить деньги у Тёти Люды.
– Да? Я спросил, где вы, а она говорит, глаза б её на меня не смотрели.
– Что?! А ну, идём в хату!
Дома она скандалила с сестрой, а Тётя Люда отвечала, что всё это брехня, и что она сказала только, что и меня бы не видела, если б я к ней не подошёл. Но я упорно повторял свою брехню.
Мать и Тётя Люда кричали друг на друга всё громче и непонятнее. Баба Катя пыталась их урезонить: «Да, перестаньте, стыд перед людьми! Соседи слышат, на улицу слышно!»
Наташа, Саша, Ирочка, и Валерик, с глазами круглыми от страха, толпились в двери между кухней и комнатой, где Дядя Толик и отец сидели, молча супясь на ящик телевизора в углу…
Так совершилась вторая моя подлость в жизни – возвёл напраслину, оклеветал свою, ни в чём не повинную тётку. И хотя её ответ на мой вопрос, я истолковал именно так, как изложил позднее матери, всё ж, после тёткиных разъяснений, я мог бы признать, да, именно так она сказала. Но нет, не признался в подлой лжи.
Утаённая ложь наполняла меня раскаянием (также невысказанным), чувством вины за громкий скандал в хате. Я оказался кругом виноватым – перед Тётей Людой с её детьми, перед матерью, которую обманул. Да вообще перед всеми, вплоть до Жульки, что я такой рохля – разнюнился: «Ах, папы-мамы нет дома! Остался один-одинёшенек!»
Моё раскаяние не высказалось, не облегчилось признанием, потому, что нас, героев того времени, не учили просить извинения.
Да, иногда в кино мог услышать, как это делается, в каком-нибудь зарубежном, но киностудия им. Горького не акцентировала подобные моменты.
Поэтому в жизни, если толкнёшь случайно, наступишь, или ещё там что, нечаянно, то: «Звыняй, шо мало!» – За глаза хватало. Ну, типа: видишь, я ж заметил же ж.
Весь этот шум из ничего положил начало медленному, как рост сталагмита, неприметному процессу моего отчуждения и превращения в «отре́занный ломо́ть», как зачастую диагностировал отец.
Я начинал жить отдельной, собственной жизнью, хотя, конечно, не чувствовал этого и не осознавал, а просто жил себе и всё тут…
~ ~ ~
Мать с Тётей Людой быстро помирились, после того, как Тётя Люда показала ей правильную ноту при исполнении новомодной песни «Всюди буйно квiтнє черемшина».
К тому же, со своей работы она приносила продукты, которых нигде не купить. Выбор товаров на магазинных полках не ломил их чрезмерным обилием. Всё более-менее стоящее продавалось из-под прилавка и исключительно нужным людям, у которых и тебе придётся что-то попросить. Ну, и родственникам работников торговли кой-что перепадало, по государственным расценкам…
Тёть Люда так смешно рассказывала про обеденные перерывы у них в магазине.
Как запрут на засов входную дверь с улицы Ленина, то все продавщицы сходятся в раздевалку, и – начинают хвастать, у кого, что вкусненького в литровой банке с обедом, принесенным из дому.
Сравнивают, у кого как пахнет, у кого смотрится лучше, рецепты обсуждают.
Завмаг, та отдельно ест, в своём кабинете, но дверь нараспашку держит, и когда у неё на столе зазвонит телефон, она трубку снимет – да? вам кого? – а потом кричит, через коридор, чтоб в раздевалке услышали.
Ну, вызванная бегом-бегом в кабинет, потом обратно… Но всё равно, от её вкусненького осталось уже на донышке.
Лучше один раз лизнуть, чем сто раз взглянуть, пральна?
Но одна у них там есть, вот же сучка хитрая! Завмаг ей покричит «к телефону!», так эта зараза, не спеша так, подымется, делает «хырк!» и в свою банку «тьфу!», и – пошла, даже не огля́нется.
И хоть полчаса там по телефону говорит, никто на её обед и не смотрит. Йехк!
. .. .
Мать тоже устроилась работать в торговле, на должность кассира в большом Гастрономе № 6 возле Вокзала. Но через два месяца у неё там случилась большая недостача.
Она очень переживала и повторяла всё время, что не могла так ошибиться. Наверное, кто-то из работников магазина выбил чек на крупную сумму, пока она вышла в туалет, а кассовый аппарат запереть забыла.
Пришлось продать пальто отца, из чистой кожи, купленное ещё в бытность на Объекте. После этого мать трудилась в одиночку, в торговых точках, где нет подозрительного коллектива, а только она одна – в ларьках Городского Парка Отдыха, рядом с Площадью Мира, в которых продают вино, печенье, сигареты, пиво разливное…
~ ~ ~
В конце лета в хате снова состоялся скандал, но в этот раз не разборка между сёстрами, а между мужем и женой.
А всё из-за грибов, которые Дядя Толик привёз из лесу, завёрнутыми в газету. Не очень-то и много, хотя на суп хватило бы.
Этот свёрток раздора, Дядь Толик аккуратно обвязал и положил в сетку, чтобы повесить на руль «Явы» и не растерять по дороге.
Но дома, вместо благодарности, Тётя Люда устроила ему бучу, как увидала, что газета обвязана бретелькой от лифчика.
Напрасно Дядя Толик твердил, что подобрал в лесу эту «паварозку хренову», Тёть Люда всё громче и громче ему объявляла, что она не вчера родилась, и пусть ей покажут лес, где на кустах лифчики растут, и нечего из неё дуру делать…
Баба Катя уже не пыталась утихомирить участников дебата, и только смотрела вокруг себя грустными глазами.
(…и это стало уроком сразу для двоих – Дядя Толик никогда больше не привозил домой грибы, а я усвоил слово «бретелька»…).
Но Тётя Люда, развивая выгодность момента, попыталась даже вообще отменить выезды Дяди Толика на рыбалку. И тогда уже он начал повышать голос до тех пор, пока не нашёлся компромисс – ему позволено и дальше увлекаться рыбной ловлей при условии, что на рыбалку он берёт с собой меня.
Так что в последующие два-три года, с весны до поздней осени, каждый выходной, с парой удочек и спиннингом, примотанными к багажнику его «Явы», мы закатывались на рыбалку.
~ ~ ~
Основной театр рыбацких действий в наших вылазках сосредоточился на Сейму. Всякий раз – новое место вдоль его неизменно живописных берегов. Случались рейды и на далёкую Десну тоже, но это не менее 70 км в один конец, и туда приходилось выезжать затемно…
Обгоняя треск собственного мотора, неслась «Ява» по городу, мирно похрапывающему в безмятежном сне. Все, поголовно, – в объятиях Морфея, ГАИшникам снится погоня, но и они упорно дрыхнут…
Одолев 30 км лотков и колдобин Батуринского шоссе, мы вырывались на Московскую трассу, где Дядя Толик порою выжимал из Чехословацкого мотора 120 км в час…
Когда мы сворачивали на полевые дороги, «Ява» сбавляла ход и рассвет начинал настигать её.
Я сидел сзади, охватив бока Дяди Толика руками, засунутыми в карманы его мотоциклетной куртки искусственной кожи, чтобы они вконец не задубели под встречным ветром. Ночь вокруг мало-помалу превращалась в сумерки, края лесополос между полей прочерчивались уже чёрно-отчётливыми сгустками.
Небо светлело, в нём начинали различаться обрывки облаков. Их продрогшая бледность смущённо розовела под охальным лапаньем лучей, тянувшихся через всё небо, пока их наглость не замечена замешкавшимся за горизонтом солнцем…
От этих перемен и дух захватывающих видов, бурля по горло, вскипал восторг не меньше, чем от скоростной езды…
. .. .
Обычно мы ловили на червей из огородных грядок, но однажды продвинутые ветераны рыбной ловли присоветовали Дядь Толику попробовать личинки стрекозы.
Эти фигнюшки живут под водой, в глыбах глины, подмытой течением из обрывистых берегов, и рыбы устраивают бои без правил, за право лично заглотить крючок с личиночной наживкой. Ну, или типа того…
Мы выехали на берег в предрассветных сумерках. «Ява» откашлялась и смолкла. Сонно поплескивала река, испуская полупрозрачно туманистые клочья пара, плывущие над водой. Дядя Толик объяснил, что планом операции именно мне предусмотрено вытаскивать те глыбы глины.
Одна лишь мысль, что предстоит окунаться в тёмную, – окутанную сумраком ещё не миновавшей ночи, – воду, послала мороз в бег трусцой по моей испуганно подрагивающей коже. Брр!
Однако любишь кататься – люби и личинок доставать. Я разделся и, по совету старшего, сразу нырнул под воду.
Ух-ты! Оказывается, в воде куда теплее, чем в сырой промозглости утра на берегу. Я подтаскивал скользкие глыбы из реки, а Дядя Толик разламывал их, у самой кромки воды, и выколупывал личинок из туннелей, которые они навертели в глине, чтобы там жить.
Когда он сказал, что уже хватит, мне жутко не хотелось покидать неторопливо струящееся тепло…
Но всё равно – налицо неоспоримый факт вопиющей эксплуатации несовершеннолетнего труда, и эксплуататор понёс заслуженное возмездие, в тот же день. Некоторые вопиющести просто нельзя откладывать в долгий ящик…
Из всех снастей, Дядь Толик тормознул своё предпочтение на спиннинге. Резким взмахом, он посылал блесну булькнуть как минимум посреди реки, а затем принимался стрекотать катушкой, дёргать хлыст и менять зигзаги курса кувыркливо мчащей под водой приманки.
Горя азартом, изголодалый хищник, – щука или, там, окунь, – бросался догнать оборзело шалую рыбёшку и заглатывал тройной крючок, неразличимый в блеске блесны-вертихвостки. Если только рыбак забросил в правильное место в правильное время.
Где-то к полудню, мы поменяли дислокацию в район незнакомого деревянного моста через реку, и Дядя Толик перешёл на противоположный высокий берег, спиннингуя, тут и там.
Оставшись один, я прилежно присматривал за поплавками пары удочек, воткнутых в песок рядом с неспешным течением. Затем меня потянуло перебазироваться на более выгодную позицию, чуть повыше, где я и залёг в полосе прибрежной травы. Но поплавки оставались видны как на ладони.
Когда Дядя Толик повернул обратно, шагая по дальнему берегу, я не вынул свою голову из травы, а вместо этого злорадно наблюдал, как он продирается через джунгли травинок-былинок, росших на уровне моих глаз. Это старинный киношный трюк при комбинированных съёмках.
Так я сделал его лилипутиком, и продержал в букашечном состоянии до самого моста. Да – сурово, но справедливо…
~ ~ ~
Однажды Тёть Люда спросила меня, с глазу на глаз, не видел ли я, как её муж заходит в какую-нибудь хату, по ходу наших рыбачьих отлучек.
Мне не пришлось кривить душой и, не солгав ни капли, я ответил, что, нет, ничего подобного мне никогда не приходилось видеть. Ни разу.
Ну, а касаемо того раза в селе Поповка, когда он вдруг вспомнил, что мы выехали на рыбалку без наживки, и ссадил меня в пустом сельском проулке, пока он сгоняет в одно место – тут, недалеко – раз-два накопает и вернётся, то, в ходе затянувшегося ожидания, видел я только глубокий песок дороги, и непролазные стены крапивы, стоявшей, высоко и плотно, по обе стороны дороги. Да почернелую солому в крыше сарая, под которым он меня десантировал. Но никаких вхождений, ни в какие хаты… Вот уж, что нет – то нет.
Чистосердечно глядя в испытующие глаза напротив, признался я любознательной тётке:
– Не, тёть Люда, дороги да берега, – вот и всё, что видел.
Случались и падения. Раза два… Да, точно дважды.
В самый первый, мы гнали по полю вдоль тропы, бежавшей поверх метровой насыпи, а по бокам высокие бурьяны. Благодаря им, я догадался, что это насыпь – высокие, а «Яве» до полколеса. Только непонятно: зачем полю насыпь?
Додуматься до ответа мне не удалось – тропа вдруг прекратилась, вместе с насыпью, и «Ява» вошла в протяжный прыжок по воздуху, пока не ткнулась головой вниз… а мы полетели дальше, через руль и бензобак…
Попутно я ещё и через Дядь Толика перелетел.
В другой раз, мы не успели даже из Нежинской выехать, когда мотоцикл зацепился за кусок железяки, по-хозяйски вкопанной перед фундаментом чьей-то хаты, чтобы транспорт его частную собственность не царапал. Когда объезжает лужи после дождя.
Однако оба раза, мы не травмировались, за исключением шишек, потому что у нас на головах были белые пластмассовые шлемы.
Правда, после падения на Нежинской рыбалку пришлось отменить, потому что у «Явы» начало капать масло из амортизатора, и ей в тот день требовался срочный ремонт.
~ ~ ~
Площадь Конотопских Дивизий названа так в честь воинских подразделений Красной Армии, освобождавших город в годы Великой Отечественной войны, она же Вторая Мировая.
И тогда, из благодарности, дивизии ответно вписали в свои наименования «Конотопская».
Мне эта площадь поначалу представлялась концом света, потому что до неё от Вокзала та-дахать аж восемь остановок на трамвае.
Площадь Конотопских Дивизий широка как три дороги вместе. Она очень длинная и вдоль всей этой длины полого нисходит в юго-западном направлении.
Ажурная башня из металла (в правом верхнем углу Площади), в отличие от Парижской знаменитости, приносила практическую пользу, удерживая водонапорный бак довольно крупного размера.
Надпись, размашистой широкой кистью по ржавому боку бака, немо взывала к Площади Конотопских Дивизий: «Оля, я люблю тебя!»
Высокая краснокирпичная стена у подножия башни оберегала – плотными рядами колючей проволоки по гребню – городскую тюрьму от излишне любопытных глаз.
Напротив башни (в левом верхнем углу), с призывной откровенностью зияли ворота Городского Колхозного Рынка.
Собственно говоря, сам Рынок пребывал вне Площади Конотопских Дивизий, за исключением его ворот, служивших также отправной точкой в шеренге площадных магазинчиков, нисходящих плавным спуском – «Мебель», «Одежда», «Обувь»…
Левый нижний угол Площади упирался в двухэтажное здание, что состояло больше из окон, чем из стен – Конотопская Швейная Фабрика. К ней примыкало здание пониже, имевшее, для контраста, стен больше, чем окон – Городской Вытрезвитель.
Впрочем, данное учреждение являлось уже запредельным, стоя на улице, которая, лишив Площадь правого нижнего угла, безбашенно пёрла прямиком к мосту в опасный окраинный район Загребелье.
Опасность района заключалась в Загребельской блатве, которые, когда заловят хлопца, кто не с их района, но надумал провожать девушку Загребельчанку, то заставляют петухом кричать или измерить длину моста спичкой, или же бьют сразу, без преамбул…
Трамвайный путь пересекал Площадь Конотопских Дивизий поперёк и, вместе с тем, наискось, тяготея кверху.
Трамваи, с предупреждающим трезвоном, вбегали на Площадь из-за угла длинной глухой стены, с тремя запертыми дверями выходов из Кинотеатра им. Воронцова, куда вход за другим углом – с улицы Ленина.
Когда в город наезжал передвижной зверинец, свои прицепы с клетками они выстраивали большим квадратом, между трамвайными путями и Швейной Фабрикой. Корраль на колёсах смахивал на оборонительный лагерь Чехов-таборитов, из Гуситских войн в учебнике «История Средних Веков».
Но посреди периметра, в отличие от Чехов, они выстраивали два дополнительных ряда клеток, спиной к спине, чтобы в воскресный день густая толпа Конотопчан, совместно с жителями близлежащих сёл, ходили вокруг них, а также вдоль клеток в стене табора.
Квадратные таблички на прутьях решётки сообщали имя и возраст узника, а над Площадью Конотопских Дивизий зависал слитный гул толпы зевак, прорезаемый воем и рёвом пленённых животных. Но такое случалось раз в три года…
И Гонщики по Отвесной Стене пару раз посещали Площадь Конотопских Дивизий. Перед воротами Городского Колхозного Рынка ставился высокий брезентовый шатёр, а внутри монтировалось кольцо пятиметровых стен из дощатых щитов.
Дважды в день, под брезент запускали зрителей, восходивших по внешней крутой лестнице, чтобы свесить лица за верхний край стены из досок, и наблюдать, как два мотоциклиста кружат по арене, набирая разгон достаточный для въезда по пандусу на кольцевую стену – и гонять по ней, в горизонтальной плоскости, глуша треском моторов и представляя свой вид сбоку свешенным через борт лицам…
. .. .
Покидая Площадь Конотопских Дивизий по улице Ленина, пешеход миновал фасад Кинотеатра им. Воронцова по левую руку. А впереди уже громадился трёхэтажный куб Дом Быта, со всяческими ателье и ремонтными мастерскими, не говоря уже про парикмахерские.
К забору вдоль тротуара между этой парой архитектурных достопримечательностей, жался спиною стенд-переросток, из металлических труб и листовой стали.
Зазывная надпись «НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!» венчала надёжную конструкцию для повешения чёрно-белых людей, заснятых в интерьере Городского Вытрезвителя.
Каждый портрет, под стеклом индивидуальных рамок массово позорного столба, сопровождала полоска бумаги, которая машинописно сообщала имя и место работы остеклённого.
Жуть брала от этих фотоснимков, где кожа, как бы содрана с людских лиц.
Лично меня эта воспитательная мера воздействия, вместо порицания, переполняла жалостью к повешенным алкашам.
Возможно, из-за того стенда в дальнем далеке, на Объекте, что так меня страшил, ну, а теперь уж как бы и роднил с этими… по крайней мере, с их детьми… чем-то…
В те поры мне нечем ещё было вкапываться в подобные психоаналитические этюды, тем более что на данном отрезке улицы Ленина всегда возникала срочность к чему-то присмотреться, оглянуться куда угодно, лишь бы не видеть постыдно мерзкий стенд.
Далее по улице Ленина, за первым же перекрёстком стоял Дом Культуры завода «Красный Металлист», чуть отодвинутый от дороги своей же собственной маленькой площадью.
Боковые стороны этой площади тоже ограждались стендами, но более весёлого назначения – для наклейки страниц из сатирических журналов: «Крокодил» на Русском – слева, Український «Перець» – справа.
Между дорогой и каждым из стендов оставалось место для киоска из стекла и железа. При внешней схожести, киоски-близнецы разнились внутренним содержанием.
Присоседившийся под боком «Крокодила» торговал мороженым и лимонадом на разлив, а полки торговой точки рядом с «Перцем» заполнила сувенирная неразбериха.
Там, среди керамических курильщиков, пластмассовых бус, пачек игральных карт, и прочих, лишённых практической ценности товаров, я высмотрел наборы спичечных этикеток. В свой следующий выезд в Город, испросив дополнительные 30 коп., я приобрёл один, с картинками животных.
Однако привезя зверей домой, для пополнения коллекции с Объекта, я понял, что это неправильно. Этикетки, отклеенные со своих коробков, мелкой печатью сообщали адрес выпустившей их спичечной фабрики, а также, что цена спичек с коробком – 1 коп.
Набор из киоска оказался лишь стопкой картинок этикеточного размера. С этого момента я утратил интерес ко всей коллекции и переподарил её моему другу Чепе. Младших я даже и не спрашивал, зная, что им она давно пофиг…
. .. .
Чепа жил возле Нежинского магазина со своей матерью, бабушкой и псом по имени Пират, хотя тот жил отдельно, в будке, а не в их крохотном, пропахшем борщом домике, чья кухня и спаленка разместились бы в единственной комнате нашей хаты. Правда, их дом являлся безраздельным владением.
Возле хаты стоял сарайчик, утеплённый извне навозной штукатуркой. В нём, помимо хозяйственных инструментов и кучи угольных «семечек» на зиму, стоял ещё и возок – продолговатый мелкий ящик из досок, на оси пары железных колёс. Полутораметровая водопроводная труба, с короткой поперечиной на конце, вытарчивает из-под ящика подобных «тачек», чтобы толкать их перед собой или же тащить следом.
От хаты до калитки на улицу, тянулся огород, ограниченный с двух сторон соседскими заборами, которые своей длиной и его тоже делали длинным, не то, что наши две-три горе грядки.
Весной и осенью, я приходил к Чепе помочь со вскопкой. Вонзая в землю штыки своих лопат, мы повторяли модную на Посёлке поговорку: «Никаких пасок! По пирожку и – огороды копать!»
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе