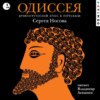Читать книгу: «Колокольчики Достоевского. Записки сумасшедшего литературоведа», страница 2
[6]
Многие, едва ли не большинство из прикасавшихся к Достоевскому думают, что “Преступление и наказание” он так и писал – с ходу, кусками, отправляя сразу в печать согласно журнальному графику. Да нам так и в школе, помнится, рассказывали, причем это подавалось как пример образцовой собранности классика.
О двух черновых редакциях публика (словечко, кстати, из первой редакции) практически не осведомлена. И это естественно, черновое хозяйство автора ее волновать не должно. Притом не худо бы знать уважаемой публике, что за предъявленным ей каноническим текстом скрыт напряженнейший труд, что и подчеркивает Л.Д.Опульская, публикатор черновых редакций. Том 7 передо мной; в связи с этим пользуюсь возможностью (оцените уместность этого оборота) выразить Вам благодарность, Евгения Львовна, за предоставление необходимых изданий; Вы не поверите, но этот том из нашей казенной библиотеки, закономерно относящийся к “Преступлению и наказанию” (“Рукописные редакции”), до меня никто не открывал. Хотя уверен: поверите.
Не могу не отметить тираж: 200 тысяч. Это “Рукописных редакций”!.. Так вся первая половина собрания этим тиражом выходила (относительно скромным по тем временам (год 1973-й)), потом тираж несколько сократился (кажется, на рукописных редакциях романа “Подросток”), можете сами проследить по выходным данным, но уверяю Вас, он того же порядка… При том что продавалось всё это в специальных отделах книжных магазинов только при предъявлении абонемента – издание-то подписное!.. А что Вы хотите? – книжный бум, страна литературоцентричная, самая читающая в мире!.. Знаете, с чем у меня “300 спартанцев” ассоциируются? Да уж конечно, не с Голливудом… Спустя почти полвека после того первого полного Пушкинский Дом берется за второе – с дополнениями, исправлениями и тому подобным, – аналогичный седьмой том на этот раз выходит тиражом 300 (триста) экземпляров. По мне, каждый экземпляр рукописных редакций романа “Преступление и наказание” в прочных латах примечаний и комментариев это стойкий боец в Фермопильском ущелье. Не меньше!
А наш седьмой том, один из тех двухсот тысяч, мой брат-близнец залил кофе – долго ему простить не мог этого.
Ну так вот, первую черновую редакцию публикаторы назвали “краткой”.
Краткая она, конечно, краткая, но с учетом того, что начало потеряно, связанного последовательного повествования листов пять было, в принципе, небольшой такой современный роман. У Достоевского – “повесть”.
Обрывается на незаконченной фразе. (Почему – я Вам еще расскажу; я-то знаю…) И нет начала, как я сказал. Но по правде, не жалко.
Текст сыроват. Прямо скажем. Ну так на то он и черновой.
Я бы не позволил себе дерзость давать здесь оценку, но это касается напрямую заданной темы: классиком допускается стратегический промах, и он грозит творческой неудачей. Повествование ведется от первого лица.
Убийца рассказывает о себе, причем в письменной форме. Это дневник.
Убил. Через пять дней – в горячечном стиле – описывает свое состояние после убийства; главный мотив – забытье и объяснение себе самому, почему не записал сразу. А что – должен был записать?
Еще через день – по избавлению от лихорадки – он приступает к весьма методичному изложению событий этих дней, и знаете, в нем пробуждается беллетрист!
Ну вот навскидку.
“Лавиза Ивановна уторопленно, и с любезностью, и с достоинством, и приседая дошла до дверей. Но в дверях наскочила сзади на видного офицера с открытым свежим лицом и с превосходными смоляными бакенами…”
Ну и при чем тут повадки какой-то Лавизы Ивановны и достоинства бакенбард офицера, если собрался говорить о главном?
Зачем он создает этот текст? Зачем он пишет? И зачем он пишет так, словно заботится о читателе? У него нет и не может быть читателя, кроме него самого. Может, он намерен доказать самому себе, что он способен владеть пером? Способен замечать детали, призванные оставлять впечатление достоверности, изображать долгий диалог, снабжая прямую речь обстоятельными ремарками?
И вместе с тем изображает болезненность своего состояния, озноб, бледность, “не знаю, не помню”, того гляди в обморок упадет, сообщает о неспособности описать переживаемое, что несколько противоречит достаточно уверенному письму. “Дальше я не буду рассказывать. Одно ощущение – сумасшествие”.
А может, он и есть сумасшедший?
Это бы многое объяснило. Вот в записной книжке помеченная нотабене запись – вроде предписания для персонажа: “Во все эти шесть глав он должен писать, говорить и представляться читателю отчасти как бы не в своем уме”. И этот убийца старается. Следует инструкции. Представляется – “как бы”. Только, дорогая Евгения Львовна, никакое это не сумасшествие. Поверьте мне, я вижу. Одна симуляция.
Но зачем, зачем? Зачем он говорит от своего имени? (Имя, к слову, у него Василий, и он еще не Раскольников.) Зачем повествование в первом лице?
Не работает.
То, что работало в “Записках из подполья”, не работает в “повести”, ведь повествует убийца!
Не собирается же он, в самом деле, напечатать в “Русском вестнике” о своем жестоком преступлении?
Уж это точно. О бытовой стороне писательства своего героя автор позаботился больше всего. Дневник, разумеется, тайный. А тайному нужен тайник.
“Этих листов у меня никогда не отыщут. Подоконная доска у меня приподымается, и этого никто не знает. Она уже давно приподымалась, и я давно уже знал. В случае нужды ее можно приподнять и опять так положить, что если другой пошевелит, то и не подымет. Да и в голову не придет. Туда под подоконник я всё и спрятал. Я там два кирпича вынул…”
Смею предположить, что ФМ описывает подоконник в висбаденской гостинице, пленником которой стал. Уж очень подробно; хочется сказать – зрелищно.
Ситуация любопытная. Смотрите: убийца, в порыве внезапного авторствования, навязанного ему Достоевским, пишет и прячет в подоконнике дневниковую повесть, в ином измерении представляющую собой художественное произведение самого Достоевского. Если не менять пропорций, это равносильно тому, как если бы сам Достоевский, написав “Преступление и наказание”, спрятал бы рукопись под подоконником у себя в Столярном переулке – или хотя бы эту черновую редакцию в подоконнике висбаденского отеля, не поставив в известность Каткова…
Забавно, забавно… А Вы могли бы вообразить меня, прячущего от Вас… ну допустим, некоторые странички этой заявки? Допустим, я тайно на отдельных листках что-то пишу мелким почерком, что-то, к примеру, личное, к делу не относящееся и хуже того – недозволительное с позиций Ваших методик. И разумеется, прячу. От Вас. Только где? Да вот за тумбочкой этой, там со стороны стены внизу перекладинка, потрескалась краска и за этой дощечкой наметилась узкая щель, – аккурат, как в нагрудный кармашек, если пополам их согнуть, две-три странички вставляются. Никто не заметит.
Способны ли Вы представить меня за подобным занятием?
Сам себя вполне представляю.
Представляю и спрашиваю: в чем же цель манипуляций? Где мотив? Для чего? Кто прочтет?
Чтобы потом перечитывать самому?.. Очень сомнительно.
Вопросы, понятно, к Василию (не к Родиону даже).
Обо всем об этом и хотелось порассуждать в этой главе; я предложил бы название
ПОДОКОННИК
И ТУМБОЧКА
[7]
Хитрость не очень хитрая, но обещает сработать. На самом деле про тумбочку я нарочно придумал. Как говорится, для отвода глаз. Предыдущую главу следовало бы назвать “Подоконник и матрас”. Но Вы это название не прочтете. Куда важнее: Вам не прочесть, что сейчас пишется мною.
Именно под матрасом, со стороны стены, я спрячу от Вас эту страницу.
А что остается мне делать, если Вы, дорогая Евгения Львовна, своими ограничениями стесняете память мне и рассудок? Я тоже в некотором смысле человек образованный и тоже кое-что почитывал в областях, не обязательно относящихся к моей основной специальности, и поверьте, с областью Ваших научных интересов я знаком несоизмеримо лучше, чем Вы с моей. Откровенно говорю, меня Ваша методика категорически не устраивает. Более того, она представляется мне вредной. Если бы я лечил Вас – вздорную самоуверенную дуру! – я бы не стеснял Вас бессмысленными запретами!.. Да что говорить, Вы все равно не прочтете!..
Ощущаю необходимость вернуться к теме моего персонального Случая и удалить неопределенность касательно моего состояния и моего статуса.
Без этого дальнейший разговор невозможен.
Речь о вспышке самосознания, перенесенной моим существом в то самое время, когда я читал лекцию о романе Достоевского.
Потом мне говорили, что это вызвано сильным переутомлением, накопленной усталостью, перенапряжением сил сверх возможностей организма. Я действительно много в то время работал, плохо спал, не давал отдыху мозгу… или нет, это мозг мой вместо того, чтобы думать об отдыхе, читал наизусть мне страницы из Достоевского. Полифонию по Бахтину я понимал как полифонию по-моему – это когда в моей голове одновременно звучали голоса персонажей книг Достоевского. Да, всё это было. И все же это другое. Во-первых, что-то подобное, пускай и в менее жестких формах, мне доводилось испытывать раньше. Во-вторых, я держал себя в рамках, во всяком случае внешне. В-третьих, я знаю, чем чревато переутомление. Только не этим. Я испытал просветление. Я как бы преобразился. Усталость мгновенно прошла. Я стал другим. Прямо во время прочтения лекции!
Я почувствовал, кто я. Почувствовал и осознал. Я предмет моего выступления. То, про кого и про что говорю глядящим на меня ценителям Достоевского…
Потому что я и есть роман Достоевского.
Повторю: я есть роман Достоевского “Преступление и наказание”.
Вот что открылось мне в тот вечер, когда я читал лекцию о романе. Вот что меня тогда потрясло. Вот суть моего открытия.
Нет (еще раз), не Достоевский сам, не Наполеон, не Раскольников, не Свидригайлов, а все вместе и сразу – и главное, сверх того!
Я есть “Преступление и наказание”!
Я есть Преступление! Я есть Наказание!
“Преступление и наказание”!
Оно воплотилось во мне!
Я не знаю, с чем это сравнить. Я остаюсь человеком, две руки, на каждой по пять пальцев, у меня конкретное Ф.И.О., уникальные данные паспорта, пользуюсь ложкой и зубной щеткой, способен общаться с людьми, брат-близнец меня навещает, и вместе с тем я безусловно оно, то самое – “Преступление и наказание” Федора Михайловича Достоевского. Роман, но не только роман. Еще идея романа.
Не книга в смысле предмет – скорее, дух книги. Что-то похожее у античных богов, у древних греков в первую очередь. Бог реки – он и река, но он и ее божество, способное являть себя в человеческом облике.
А может, Афина? Она родилась из головы Зевса. Вот так и я родился из головы Достоевского (что не мешает оставаться рожденным обычным порядком). И мне присуще могущество античного бога – в пределах его ответственности.
Как сын моей матери я человек, но как рожденный из головы Достоевского я “Преступление и наказание”.
Сейчас я немного мудрствую, но тогда я осознал это без слов и выручающих образов. Конечно, это был шок, но шок просветления.
Отдаю отчет в том, что это странная ситуация. Но лично меня она вполне устраивает.
Доставляет некоторый дискомфорт чтение чужих работ по “Преступлению и наказанию”, далеко не всегда приятно читать о себе самом. Но я способен дистанцироваться от этой стороны своего воплощения. Могу смотреть на себя со стороны и воспринимать вполне диалектически свое двуединство.
В целом, коммуникативных проблем за собой не знаю. Иногда общение с другими затрудняет понимание, что тебя хотят прочитать. Я не против. Сколько угодно. Я даже рад чужому интересу к роману. Беда не во мне, а в убыстряющемся падении культуры чтения. Читатель мой опрощается, перестает воспринимать текст, это пугает.
Пугает, что читают не так. Пугает угроза не прочитаться (впрочем, и радует тоже). Вот вы все, в моих мозгах ковыряясь, много ли там обнаружили полезного, верного, вечного?.. С вашим-то всепроникновением, с вашей-то прозорливостью… с вашим всезнанием?..
Мне смешно даже думать об этом.
А хорошо ли я сам понимаю “Преступление и наказание”? Иногда мне кажется, лучше всех – задавайте вопросы – знаю все досконально. Но и сомнения посещают порой. А иногда даже страх – будто в тебе самом раскрывается бездна. Вопрос в той степени справедлив, в какой субъект сам себя понимать или не понимать может и насколько он сам готов к самопознанию. Да, есть такое. Каждый ли из нас хвастаться будет абсолютным пониманием себя самого? Разве что сумасшедший.
Еще меня пугает мысль, что я в этом роде не единственен. Плохая мысль, я ее отгоняю. Не хочу верить ей. Иначе мне трудно представить встречу с тем существом. Это тяжелее, чем увидеть своего двойника. Не буду об этом.
Так что и без Вас, дорогая Евгения Львовна, я себе запрещаю думать о некоторых предметах. Например, о собственной гениальности. ПиН гениально? Безусловно. Значит и я гениален, коль скоро я ПиН?
Вам не нравится ПиН? Мне тоже. Больше не буду. Много бумаги – нет надобности сокращать.
То же с бессмертием. Но здесь я даже мысль не хочу формулировать. Можно додуматься до безумных вещей.
(Бессмертен ли я; если да, то насколько; что есть бесконечность; и есть ли она…)
Довольно. Пора завершать. Я был обязан написать эту главу. Я в рамках. Пора убирать под матрас, а нет ей даже названия, пусть так и будет
БЕЗ НАЗВАНИЯ
[8]
“Я под судом и все расскажу. Я все запишу. Я для себя пишу, но пусть прочтут и другие и все судьи мои, если хотят. Это исповедь, полная. Ничего не утаю”.
Таково начало “Второй (пространной) редакции”, как называют публикаторы материалы, относящиеся к “Преступлению и наказанию” из другой записной книжки писателя (в 7 т. ПСС). Черновой автограф озаглавлен так: “Под судом”. Это название Достоевского.
Видите, какой радикальный поворот.
Подоконник останется в целости и сохранности, два кирпича пребудут на месте, необходимости что-нибудь прятать больше нет – автор лишает убийцу желания вести дневник и правильно делает, фальшивый дневник выходил какой-то. Теперь герой повествует не сразу после убийства, а спустя восемь месяцев – времени у него было достаточно, чтобы разобраться в каких-то важных вещах, кое-что вспомнить. Теперь за ним будет числиться, если верить подготовительным заметкам, подвиг на пожаре и недвусмысленное раскаяние (автору на данном этапе так благостно виделся финал этой истории).
Прежде было для себя (или не для кого), теперь для всех (и для себя тоже). Возможностей больше.
А проблемы – те же.
Вспоминается знаете кто? Андрей Романович Чикатило, Ваш любимец. Он, будучи осужденным, собирался воспоминания написать о своей трагической жизни. Мыслил себя исключительной индивидуальностью, полагал, что эти мемуары должны представлять большой интерес – уж не знаю, общественный или медицинский, ему наверное все равно было. Говорят (читал где-то), уже приговоренным он не верил, что его могут казнить, столь высоко ценил свою уникальность. А что? Любопытный мог бы получиться текст, как Вы находите?
Филолог, между прочим. В школе-интернате преподавал русский язык и литературу. Мне бы очень любопытно было посидеть на его уроке, послушать, что он о Раскольникове, о Свидригайлове говорит, о проблематике романа в целом.
Принцип “право имею” ну не мог же он на себя не примерить? – принцип “право имею”, как понимаю, в его случае действовал безотказно. Он-то, со своей уникальностью и неповторимостью, “право имел” – в меру вменяемости (а он, согласно экспертизе, действительно был вменяемым при всех психических отклонениях). А вот взрослому сыну в этой исключительности, похоже, отказывал. Когда того на уголовщину потянуло, вмешался, нагоняй сыну устроил – справедливо так, по-отцовски (тот для первого раза двумя годами условно отделается), – это все обсуждалось в печати, даже телепередача была… Но может быть, тут другое – высота полета, понимаете ли. Одно дело зверское убийство с потрошением, выколотые глаза, поедание отрезанных фрагментов тела, бурный оргазм – необузданные страсти, жар, и другое – какое-то заурядное ограбление несчастных вьетнамцев.
А не кажется ли Вам, Евгения Львовна, обладание редчайшей фамилией может побудить к чему-то особенному в поведении человека, ему ж на роду так написано? Вот и Свидригайлов – тоже фамилия из уникальных… А Раскольников? Мать Раскольникова не только статьей сына гордилась, она и о своей фамилии (в подготовительных материалах) с гордостью говорила, дескать, двести лет этой фамилии, – а ведь нам в жизни не попадались Раскольниковы… Чикатило тут вне конкуренции… А тут еще и отчество не из самых распространенных – и что? – когда Андрей Романович о Родионе Романовиче своим ученикам рассказывал, не возникало ли у него ощущение, подсознательно пусть, кровного родства с персонажем?..
У Достоевского вполне мог появиться Чикатилин какой-нибудь, он такое любил…
Да что я на Чикатило этого переключился? Ну его. В заявленной книге случай его стоит лишь упомянуть как параллель авторствованию “под судом”. Психотип же совсем другой.
Хотя относительно Раскольникова тоже вопрос можно поставить ребром: сам-то он мог бы стать серийным убийцей?
И знаете, как, Евгения Львовна, отвечу… А вот утвердительно Вам отвечу. Если бы у Раскольникова первый опыт вполне успешно прошел (то есть подтверждено эмпирически было бы, что “право имеет”), неужели остановился бы? Нравственные убеждения просто требовали бы продолжения. Тех деньжат, что добыл по первости, явно не хватило бы для крупных гуманитарных проектов, стартовый капитал маловат. Отказ от продолжения равносилен признанию бесполезным первого акта, стало быть, вся идея ставится под сомнение. Да что ж останавливает? Всяких “вшей” в Петербурге хоть пруд пруди – расширяй свои возможности во благо человечества, раз у тебя такая программа благородная.
В окончательном тексте герой проговаривается. Он говорит Соне вскоре после признания: “Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства”. Вот ведь как!.. Значит, и другое “может быть” мысленно допускалось?.. Значит, мог все-таки, “тою же дорогой идя”, и “повторить”, получается? Если бы сумел доказать себе, что не “тварь дрожащая” и “право имеет”?
Я к тому, что в случае успеха первого дела (на что и был расчет) Раскольников непременно стал бы на тропу серийного убийцы (чего хоть и не было в планах, но по логике “проекта”, по целеполаганию, непременно должно было б случиться). Альтернатива тому: неудача “проекта” – убийца не выдержал, сломался.
Вы скажете, о том и роман – в обязательном порядке убийца не выдержал бы. Иного варианта будто бы Достоевский и допустить не может. Ну да, коль скоро он именно этому человеку поручает убийство двух женщин, иного исхода ждать не приходится. А если бы поручил иному герою? У кого нервы покрепче? Таким головорезам счету нет. Да и в подготовительных материалах встречаются имена исторических и литературных преступников… Да вот целый тип – благородный разбойник! Благородный разбойник – он же идейный! Знаете, как Достоевский любил Шиллера? “Разбойники” – юношеский восторг. В молодости сам драму написал в подражание, – не сохранилось ни строчки… А Дубровский? Жизнь заставила. Подался в разбойники. Вроде бы и наш тот же тип, – разве он не благородный разбойник?.. Только не по лесам шныряет, а лежит на диване. Замыслил устроить разбой и благими делами кровь искупить. И в чем проблема? Да ни в чем. Одна только. В том, что поручает автор топором орудовать неврастенику. Конечно, у него ничего не получится.
Иными словами, в этой главе мне хотелось бы выразить мысль вот такую: если уничтожать старушек исключительно ограбления ради, ничего оригинального в этом не будет, но если зарубать их во благо всему человечеству, то это уже Ваш клиент, Евгения Львовна. Получилось у него или нет (то есть стал ли серийным или же сразу обломался), особого значения не имеет – Ваш клиент.
А вот в желтый дом Достоевский не хотел его упекать, пусть идет на каторгу, причем по своей воле. Писателя не психиатрия интересует, а психология: как тут у нас представитель молодого поколения со своим заблуждением справляться будет.
Трудную задачу ставит перед собой автор будущего романа – побудить такого новоиспеченного убийцу рассказывать о своем преступлении – и теперь уже всему свету, да так, чтобы, демонстрируя ситуативное помешательство, не выдавал он в себе маньяка логикой осмысления своих же мотивов.
Вот об этом должна быть глава. Чтобы с названием не мучиться, позаимствуем заглавие из второй рабочей тетради, пусть так и будет названа:
ПОД СУДОМ
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе