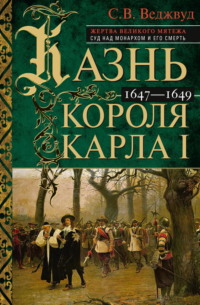Читать книгу: «Казнь короля Карла I. Жертва Великого мятежа: суд над монархом и его смерть. 1647–1649», страница 2
Глава 1
Пролог
Суд над королем Карлом I и его казнь поразили всю Европу в 1649 г. С того момента монархи умирали по народному постановлению в более бурных и имеющих далеко идущие последствия революциях, и идея монархии, ради которой король Карл жил и умер, исчезла на земле. Там, где этот институт сохранился в наши дни, он существует в форме, которую не признал бы.
Потрясающие события, произошедшие в Англии зимой 1648/49 г., стали предвестниками грядущих событий. Королей и раньше убивали, они становились жертвами заговоров, их свергали, зверски расправлялись с ними. Бабушка Карла I Мария, королева Шотландская, предстала перед судом и была казнена, но не тогда, когда она была правящей королевой, не в своей стране и не руками своих подданных. К этому времени она уже давно была низложена с трона Шотландии, находилась в заточении в Англии и была осуждена и приговорена своими тюремщиками.
Король Карл был привлечен к суду собственным народом, когда обладал титулом короля, – и это было деяние, которое бросило вызов традиции, и многим показалось страшным богохульством в отношении монарха, назначенного Богом. Один роялист написал накануне суда: «Доселе никогда еще такого ужасного события не происходило в мире, так как личность монарха всегда считалась священной… даже среди самых варварских народов; и хотя во многих королевствах к ним применяли силу оружия и иногда… свергали, а потом по-тихому убивали, тем не менее в истории мы не найдем аналога тому, что гнев мятежников дошел до того, что они привлекли к общественному суду своего суверенного владыку и казнили его, что противоречит закону природы, обычаю народов и священным писаниям… Какой суд будет судить их короля? Кто будет ему равным? Кто будет выносить приговор? Чьи глаза осмелятся быть настолько нечестивыми, чтобы взирать на казнь? Чья рука протянется, чтобы нанести удар помазаннику Божьему, и не отсохнет, как рука Иеровоама, когда он поднял ее на миропомазанного пророка?»
Через несколько недель были даны ответы на все эти вопросы. Нашлись люди для того, чтобы и судить, и выносить приговор, и отрубить голову королю. Карл так и не был свергнут. В обвинительном приговоре его называют «королем Англии», и в ордере на казнь он по-прежнему значится как «король Англии». Последними словами палача, произнесенными без всякой иронии, когда король положил свою голову на плаху, были: «Соблаговолите, ваше величество». Те, кто судили его, наносили удар не только по человеку, но и по его высокой должности. По словам Джона Кука, который в качестве генерального прокурора поддерживал обвинение против короля, они «вынесли приговор не только тирану, но и самой тирании». Король согрешил, будучи королем, и как король он заплатил за это. Определенные смелые и последовательные принципы вдохновляли убийц короля на такое деяние.
В других отношениях суд над королем был поспешным и непродуманным средством достижения цели. Потому что король должен был умереть. Как сказал Оливер Кромвель в своей сбивчивой и непонятной речи в защиту действий палаты общин, «провидение и необходимость вынудили их сделать это». Смерть короля не входила в изначальные цели гражданской войны, начавшейся между королем и парламентом в 1642 г. Тогда его противники заявляли, что хотят лишь сохранить его честь и безопасность при условии, что его методы управления страной претерпят изменения. Шесть лет спустя по логике событий – «провидения и необходимости», о которых говорил Кромвель, проблему могла решить только его смерть. Как же это случилось?
Когда летом 1642 г. Карл, с одной стороны, и парламентские лидеры – с другой начали собирать войска, чтобы воевать, противники короля считали, что как только они одержат победу на поле боя, он выполнит все их требования. Они хотели, чтобы он советовался с ними при назначении министров и передал контроль за вооруженными силами в их руки. Они также хотели, чтобы он реформировал церковь, упразднив епископов, и сделал парламент арбитром в церковных делах. Эти уступки превратили бы парламент из совещательного органа, каким он всегда был на практике, в правящую силу в государстве, к чему он давно уже стремился. Король должен был остаться пользующимся уважением номинальным главой, но реальную власть – гражданскую, военную, церковную – должны были осуществлять мелкопоместное дворянство, юристы и торговцы палаты общин, поддерживаемые богатством и земельными интересами лордов.
Противники короля полагали, что как только его войска потерпят поражение, он примет их условия как цену мира и своей собственной свободы. Они ошиблись. Потерпев поражение, лишившись власти и став пленником, Карл продолжал противиться их требованиям. Он верил, что Бог дал ему высшую власть в королевстве, – а так как его предшественники-Тюдоры осуществляли такую власть, то можно добавить, что история была целиком на его стороне. Так как он был убежден, что политическая власть монархии была установлена свыше, он полагал, что совершит смертельный грех, если откажется от какой-либо ее части. Он был скорее готов рискнуть своими свободой и жизнью (а также жизнью своих многочисленных подданных), чем позволить ослабнуть священной власти монарха. То, что он получил от Бога, должен был в целости передать своему сыну.
Он был не только смелым человеком, но и скрытным и нечестным. Он пытался выиграть время уклончивостью, притворяясь, что уступает. В обстоятельствах, в которых оказался, он был лишен власти и связи с друзьями, находился в заточении – это было довольно естественно. Но его постоянные отсрочки в достижении соглашения, попытки вызвать разногласия среди своих противников, собрать новых союзников в стране и за рубежом и разжечь вторую войну приводили в ярость его врагов. Тем временем страна, не имея какого-либо общепринятого правительства, соскальзывала в анархию. Весной 1648 г. тайные замыслы короля бурно вышли на свет Божий с началом новой войны. Армия вторглась из Шотландии, и начались восстания в Южном Уэльсе, Кенте, Восточной Англии и на Севере. После долгого лета боев роялисты везде потерпели поражение.
Вспышка новой войны убедила наиболее жестких противников короля в том, что никакой мир невозможен, пока он жив. Прежде чем отправиться на подавление роялистов, многие главные военачальники армии сторонников парламента провели трехдневное собрание, чтобы помолиться и посовещаться. По окончании этих трех дней они торжественно «обвинили кровавого Карла Стюарта в пролитой им крови и причиненном зле делу Господа и несчастному народу этой страны».
Король понимал, какая опасность ему грозит. С самого начала своего заключения он с неизменным спокойствием осознавал возможность быть убитым – тайно доведенным до смерти, возможно, за стенами своей тюрьмы. Но некоторые его противники – самые лучшие из них – были мужественными людьми с высокими принципами. Тайное убийство вызывало у них отвращение. Они тоже считали, что Бог на их стороне и что нечестивый король – это приемлемая жертва. Поэтому осмелились открыто судить его и публично казнить. Они проигнорировали теорию Божественного права, потому что видели в священных книгах мало того, что говорило бы в его поддержку, и много того, что ему противоречило. Для них, как и для короля, религия и политика были тесно связаны. Они ссылались на Библию для поддержки своих действий, но и также заявляли, что власть народа выше власти монарха, и пытались показать, что король, как и любой другой человек, может быть подвергнут суду согласно общему праву Англии. По мнению многих современников, они бросили вызов Божьей мести актом беспримерного богохульства. Но по мнению некоторых (предположительно, меньшинства), они действовали справедливо и угодно Богу.
20 ноября 1648 г. армия пуритан – армия Кромвеля – изложила в палате общин свое требование, чтобы король предстал перед судом. 30 января следующего года ему отрубили голову на плахе, сооруженной на общедоступной улице под окнами его собственного Банкетинг-Хауса, дворца Уайтхолл.
Цель этой книги – описать события тех десяти недель. В течение этого времени армия из 40 000 человек, возглавляемая группой решительных офицеров (главными из них был Оливер Кромвель и его зять Генри Айртон), взяла в свои руки реальное управление страной, провела чистку парламента и стала им манипулировать, создала необходимые революционные процедуры для проведения суда над королем, подавляя при этом другие революционные шаги, не отвечавшие ее целям, вывела короля на суд в Вестминстер-Холле, в нарушение почти всех юридических заключений обеспечила 59 подписей под его смертным приговором, нашла палача для приведения приговора в исполнение и, наконец, провозгласила Англию республикой.
Последовательность событий – своеобразная и захватывающая, главные действующие лица обеих сторон – это спокойный и одинокий король, грозный Кромвель с солдатами-фанатиками под его командованием, Джон Брэдшоу и Джон Кук – двое юристов, взявших на себя ответственность одному быть его судьей, а другому – главным обвинителем. Для роялистов смерть короля стала самым мрачным деянием в истории человечества со времен распятия Христа, чудовищным преступлением, совершенным шайкой злодеев, покрывших светлое имя Англии вечным позором. Но те, кто убил короля, придерживались высокого убеждения в своей правоте, в том, что они нанесли удар по тирании, который «будет жить и останется в истории как вечная слава Английского государства, которое не выбрало темный, сомнительный или обходной путь, а вышло на открытую и прямую дорогу Справедливости, Здравого смысла, Закона и Религии».
Глава 2
Великий преступник
Ноябрь-декабрь 1648
I
Король Карл I отмечал свой 48-й день рождения в воскресенье 19 ноября 1648 г. в Ньюпорте на острове Уайт. Джеймс Ашер, архиепископ Армагский и примас всей Ирландии, был выбран, чтобы прочесть проповедь при дворе. Он смутил своих слушателей чрезмерным восхвалением святости и величия монаршей власти: «Король – не только славен, он – сама слава; не только могущественен, но и само могущество». 49-й год человеческого возраста, в который вступал его величество, у евреев считался юбилейным: «В сердце каждого верного королю человека должны быть желание и стремление молиться за то, чтобы у короля состоялся настоящий юбилей».
Король, олицетворявший славу и власть, был низкорослым, уставшим седоволосым мужчиной, который большую часть проповеди просидел, прикрыв ладонью лицо. Некоторые присутствовавшие думали, что он смущен преувеличенными выражениями Ашера, столь далекими от реального положения дел в этот день, 19 ноября 1648 г. Потерпев поражение в борьбе со своим парламентом, он был пленником в течение двух с половиной лет. Его неволя была почетной: с ним обращались согласно церемониалу, и у него был малый двор, но суровая реальность скорее завуалированной, нежели скрытой. Он лучше своих придворных знал о грозивших ему опасностях, и, когда прикрывал лицо во время проповеди Ашера, это, возможно, скрывало конфликт чувств, который в тот момент он не мог контролировать. Неведомо для присутствовавших за последние сорок восемь часов он – в одиночку и полностью осознавая происходящее – принял решение, которое подвергало его жизнь неотвратимой опасности.
Ирония судьбы вдохновляла его придворных проповедников в самые критические моменты его правления. Когда он взошел на трон, Джон Донн, настоятель собора Святого Павла, для своей первой проповеди молодому королю выбрал тему мученичества. На его коронации старый епископ Карлайлский построил свою проповедь на тексте «Будь верующим до самой смерти, и я воздам тебе корону жизни». Донн тоже неосознанно стал пророком: «Последнее, что завещал тебе Христос, была Его Кровь… не отказывайся идти к Нему тем же путем, если Его Величие потребует этой жертвы». Эта жертва теперь потребовалась, и король Карл сидел, прикрыв лицо рукой, в то время как Ашер превозносил его славу и желал ему отметить юбилей.
К этому времени он уже привык к несчастьям. За последние годы стал выглядеть старым и напряженным; его щеки обвисли, появились большие мешки под глазами, волосы и борода сильно поседели. Он постепенно лишался всего, что ценил больше всего, и людей, на которых больше всего рассчитывал. В дни своего процветания он свободно перемещался между полудюжиной огромных дворцов, увешанных гобеленами, заставленных шкафчиками с редкостями и украшенных величайшими полотнами Тициана, Мантеньи, Корреджо и Ван Дейка. Теперь его жилищем был частный дом верного ему дворянина сэра Вильяма Хопкинса в небольшом городке Ньюпорте, а его великолепный двор сократился до нескольких маленьких комнат и горстки слуг. Роскошь, которой он когда-то был окружен, исчезла; охота, которая была его главным развлечением, попала под запрет из-за опасения его побега; количество соколов, гончих, лошадей было сокращено до скромных потребностей и регламентированной жизни. У него по-прежнему оставались его собаки – спаниель Шалун и любимая гончая Цыганка. По его словам, гончие любят своих хозяев так же, как и спаниели, «только не так льстят им».
Временами он играл в шары. Карл получал удовольствие от обсуждения серьезных вопросов со своими слугами. Он много читал – Библию, молитвенники, стихи Джорджа Герберта, Faerie Queene («Королева фей») Спенсера, переводы Тассо и Ариосто, листал страницы комментария иезуита Вильяльпандо к Книге пророка Иезекииля, возможно, не столько из-за их верноподданнического содержания, сколько из-за великолепных архитектурных вклеек, демонстрирующих концепцию Иерусалимского храма ученого иезуита – величественную классическую фантазию, которая повлияла на Иниго Джонса при проектировании Уайтхолла. Спасаясь от открывавшейся перед ним ужасной перспективы, король также обдумывал планы перестройки Уайтхолла, принесенные ему помощником Джонса Джоном Уэббом.
Король больше четырех лет не видел свою жену, которую сердечно любил; последние двенадцать месяцев он не видел никого из своих детей. В таких неподходящих условиях его настроение, всегда переменчивое, колебалось между смирением и иллюзорной надеждой. Он всегда любил интриги и без конца интриговал, и зачастую они отличались противоречащей себе сложностью. Он привык писать измененным почерком, посылать и получать зашифрованные письма, которые прятались в корзине для белья для стирки или засовывались в палец перчатки. Ему приходилось быть бдительным и настороже, не доверять незнакомцам, которые предлагали ему свои услуги, из страха, что это шпионы. По его словам, он мог оценить верность человека по тому, как тот целует его руку.
Тем временем простые люди, особенно женщины, тронутые его бедственным положением, находили способы проявить к нему свое благоговение. Молодая домохозяйка, сделав низкий реверанс, вложила в его руку самую красивую розу из своего сада. Сельские жители приводили к нему своих детей, чтобы он излечил их своим королевским прикосновением. Девочка, слепая на один глаз, на голову которой он возложил свою ладонь, закричала, что к ней вернулось зрение. Эксперименты со свечой показали, что действительно в какой-то степени так оно и было. Король сохранил свою обычную невозмутимость, но был заметно тронут этим эпизодом.
В то лето 1648 г. ряд восстаний роялистов, которые он сам отчасти и организовал, были одно за другим подавлены. Главнокомандующий парламентской армией лорд Ферфакс расправился с восстаниями в Кенте и Эссексе, генерал-лейтенант Оливер Кромвель разбил роялистов в Уэльсе и их шотландских союзников на Севере. Король, ожидавший на острове Уайт вестей от своих друзей, стоически воспринял известие об их поражениях, но не испытал угрызений совести из-за того, что снова вверг свою страну в войну и стал причиной смерти многих своих подданных. С его точки зрения, у него не было выбора: его долг состоял в том, чтобы возвратить себе любыми средствами утраченную им власть.
Разные интересы и разногласия сильно разделили его врагов. В то время к двум главным группировкам в парламенте применяли религиозные термины «пресвитерианцы» и «индепенденты». Пресвитерианцы были консервативными противниками короля, которые хотели вернуть короля на трон после передачи им парламенту контроля за вооруженными силами и реформирования церкви – упразднения епископов и очищения христианских обрядов. Во время войны многие из них надеялись на компромиссный мир. Индепенденты, как явствует из названия, верили в более широкую толерантность и всеобщую свободу для паствы избирать своих собственных священников и совершать богослужения по-своему, вне рамок древней приходской системы. С такими религиозными взглядами иногда, но не всегда, ассоциировались политические взгляды более авантюрного характера. Возглавляемые в палате общин сэром Генри Вейном и Оливером Кромвелем, когда тот не находился в войсках, индепенденты последовательно требовали энергичного ведения войны, а после ее завершения их парламентская фракция усилилась рядом армейских офицеров, которые заполнили места, освободившиеся после изгнания из парламента роялистов. Они были парламентским меньшинством, но большим и опасным, потому что представляли интересы и мнения армии.
Вне парламента существовала третья группа – более целенаправленно организованная и уже имевшая черты современной политической партии. «Левеллеры», как их называли, вышли на первый план в рядах армии и лондонском Сити за последние три года. Их признанным лидером был Джон Лилберн – плодовитый и умеющий красиво говорить памфлетист, а их программа включала реформу избирательного права и правосудия, всеобщую свободу вероисповедания и упразднение церковной десятины.
Во время летних восстаний роялистов индепенденты в парламенте были слабы, потому что Кромвель и два десятка других военных-депутатов находились на войне. Так что пресвитерианцы восстановили свой контроль над палатой общин. Боясь фанатизма и неистовства армии, они приняли решение достичь соглашения с королем, пока у них есть такая власть, и противостоять армии по окончании боевых действий, заключив и уже подписав мирный договор. Сомнительно, чтобы такой план мог бы оказаться успешным, но, по крайней мере, был шанс, что это возможно и что король и пресвитерианский парламент, снова предложив народу надежду на мир и порядок, одержат победу над недовольством индепендентов и левеллеров и требованиями победоносной армии.
Такой договор нужно было заключать быстро, если его вообще удалось бы заключить, но к ноябрю 1648 г. король и парламент не пришли ни к какому соглашению. Парламентские уполномоченные жестко стояли на своих требованиях: король должен отказаться от своего древнего права командовать вооруженными силами королевства; отправить нескольких избранных из своих самых ярых сторонников в ссылку; подчиниться реформе церкви согласно парламентскому постановлению. Он со своей стороны не пожелал согласиться ни на один из этих пунктов и смотрел на договор исключительно как на средство возвращения себе своей личной свободы и тем самым свободы действий, которая ему была нужна для свержения одержавших над ним победу врагов. В письмах, которые он неофициально посылал своему старшему сыну, восемнадцатилетнему юноше, нашедшему убежище в Нидерландах, он откровенно высказывал свое мнение, ни минуты не сомневаясь, что невозможность достигнуть соглашения на этот раз, как и во всех предыдущих случаях, была виной его противников, а не его самого.
Публично он дал слово, что не совершит побег во время ведения переговоров, но втайне продолжал строить – хоть и бесполезные – планы и проекты побега. Публично он негодовал, когда его обвиняли в том, что он побуждает ирландцев прийти к нему на помощь, утверждая, что это обвинение является намеренной попыткой «убедить наш народ в том, что пока мы с ним ведем переговоры о мире, то готовимся к войне другими силами». Но он тайно написал маркизу Ормонду, своему главному стороннику в Ирландии, убеждая его не прекращать усилий по оказанию ему помощи и уверяя, что он отвергнет любые условия, о которых состоится договоренность в Ньюпорте, как только у него появится возможность сделать это.
И все же он верил, что хочет мира, и как король и христианин делал все возможное, чтобы его добиться. По крайней мере, как-то во время переговоров один из его секретарей, преданный ему Филипп Уорвик, увидел, как он погрузился в отчаяние и скорбь, а его глаза наполнились слезами.
Двуличность, в которой его часто обвиняли, была в последние годы его жизни единственным оставшимся у него оружием для защиты всего того, во что он верил. Для него его монаршая власть была символом веры. Бог облек его властью, и эта власть была священной. Бог, которому были ведомы все тайны и от которого ничто не было скрыто, постановил, что безопасность народа зависит от воли монарха. Притязания его подданных на то, чтобы иметь голос в управлении государством независимо от него самого, казались ему кощунственными. Те люди, которые их высказывали, по его мнению, были либо нечестивцами, либо простофилями, обманутыми нечестивцами. Он так и не смог поверить в какую-либо более уважительную причину их поведения.
Придерживаясь таких убеждений, он должен был считать себя безупречным во всех действиях любого рода, которые имели своей целью возвращение ему власти и спасение его народа от последствий его же глупости. В гражданской войне между ним и парламентом он считал парламент единственным виновным во всей пролитой крови. Действительно, после долгих споров в Ньюпорте он согласился на пункт договора, освобождающий его противников от вины и косвенно признающий его собственную вину и вину своих приверженцев в войне. Но это, как он написал своему сыну, было признание, вырванное у него суровой необходимостью в его положении пленника. Оно никоим образом не отражало его убеждение в этом вопросе, и он не представлял себе, что какой-нибудь беспристрастный, честный человек мог вообще согласиться с этим. Что же касается возобновления войны за последние месяцы и обвинения армией его как человека, проливающего кровь, он относился к этому как к злобной пропаганде негодяев.
Карл понимал, что самая большая опасность для него исходит не от парламента, а от армии, которая хотя теоретически и находилась под властью парламента, но на практике не контролировалась никем, кроме ее собственных военачальников. Пока армия была занята подавлением роялистов, он мог безопасно вести переговоры с парламентом и не сомневался, что, если они достигнут соглашения, армии придется принять их решение, настолько сильно было в народе желание мира. Но если боевые действия закончатся до какого бы то ни было урегулирования вопроса, то армия без колебаний прервет переговоры и возьмет закон в свои руки. В ту неделю, которая непосредственно предшествовала проповеди архиепископа Ашера в честь дня рождения короля, он узнал, что так и случилось.
II
К середине октября отношение в армии к договору было резко отрицательным. Полк под командованием Генри Айртона, зятя Кромвеля, составил прошение главнокомандующему лорду Ферфаксу, в котором было выражено негодование по поводу заключения какого бы то ни было договора с королем, который «предал оказанное ему доверие и начал войну против народа, чтобы поработить его, нарушая свои клятвы и попирая наши законы». Искренним желанием военнослужащих его полка было, «чтобы беспристрастному и быстрому суду были преданы все преступники и… чтобы за одну и ту же вину получили одно и то же наказание и король или лорд, и беднейший простолюдин». Они даже не потерпели бы никакой защиты короля и просили, чтобы всех, кто говорил от его имени, считали предателями «до тех пор, пока он не расплатится за пролитие крови невинных».
Примеру полка Айртона последовали другие. Памфлеты и листовки сообщали, что король в Ньюпорте заявил о своей ответственности за войну и тем самым признал свою вину в пролитии крови своих убитых подданных, число которых было чрезмерно завышено по разным подсчетам и доходило до 300 000 человек.
При таком стечении обстоятельств отряд роялистов из одного из оставшихся у них опорных пунктов, замка Понтефракт, попытался похитить и удерживать для выкупа полковника Рейнсборо, открытого республиканца и кумира левеллеров. По несчастливой случайности, они убили его. Это ничем не оправданное убийство невооруженного человека вызвало среди солдат бурю негодования против короля и его кровавых сторонников. Количество разговоров и петиций угрожающего характера росло.
Солдатами, охранявшими короля, командовали люди с умеренными взглядами, которые не разделяли эти мстительные настроения. Полковник Роберт Хэммонд, комендант замка Карисбрук, на попечении которого король находился девять месяцев, начал испытывать по отношению к нему если не привязанность и уважение, то, по крайней мере, тревогу за его судьбу. Если армия имела намерение причинить вред королю, то должен ли он как комендант замка участвовать в этом? Разве он ничем не обязан человеку, который когда-то был суверенным правителем и которого он знал как обходительного джентльмена? За советом он обратился к своему двоюродному брату, самому могущественному человеку в армии и, как некоторые полагали, самому могущественному человеку в Англии, Оливеру Кромвелю.
Кромвель не был по своему рангу самым могущественным человеком ни в армии, ни в Англии. Он был генерал-лейтенантом, подчиненным лорду Ферфаксу, и, когда Хэммонд написал ему, он даже находился не в штабе армии, а далеко на севере, где продолжал выполнять незаконченное дело Рейнсборо – осаждать замок Понтефракт. Тем не менее к этому времени сформировалась общая точка зрения среди тех, кто освещал события в Англии в частных письмах, газетах или тайной прессе роялистов, что Старый Нол – он герцог Оливер, он же король Кромвель (он и получил от них все эти прозвища) – стал той силой, с которой следовало считаться.
Из всех доминирующих фигур в английской истории Оливер Кромвель является, наверное, той, интерпретировать которую труднее всего. Его письма и речи раскрывают силу его личности и практическую сторону его гения – мастерство в области военной организации и стратегии. Но за пределами военной сферы рассуждения, которыми он руководствовался в своих действиях, далеко не ясны. Он заставлял свой ум работать посредством молитвы и маскировал сложный мозговой механизм памяти, ассоциацию и дедукцию туманным языком видений и предсказаний. Таким образом, процесс работы его мощного и сосредоточенного ума выступал для него как результат духовного руководства. Во всем, за исключением практических вопросов, его речь была импульсивной и сбивчивой. Он опровергал аргументы противоположной стороны силой своих убеждений и лишь очень редко – демонстрацией скрывающейся за ними логики.
У нас имеется очень мало полученных из его собственных уст доказательств той роли, которую он сыграл в смерти короля, и ничего такого, что полностью объясняло бы его намерения и цели. Стремясь понять, что и почему он сделал, мы вынуждены изучать циркулировавшие в то время слухи и предположения (коих было очень много) и принимать, хотя и с оговорками, рассказы о его поведении, изложенные теми убийцами короля, которые много лет спустя, сами оказавшись под судом, угрожавшим их жизни, заявляли, что это он заставил их убить короля.
До нас дошли лишь несколько фраз, написанных его рукой или сказанных им самим, но это сильные фразы. Осенью 1648 г. он называл короля «этим человеком, против которого свидетельствовал Господь». Девять лет спустя, когда он сам отказался принять титул короля, то сказал об уничтожении монархии: «Я не буду оспаривать справедливость этого, когда дело сделано, и мне не обязательно сейчас сообщать вам, каково мое мнение по этому вопросу в случае, если это нужно было бы сделать снова».
Убеждения и мотивы короля никогда не проявлялись более отчетливо, чем в эти последние дни. Мотивы Кромвеля, напротив, непонятны и неопределенны.
Он родился на год раньше короля Карла в семье небольшого землевладельца, которая сначала накопила, а потом потеряла значительные богатства со времен Реформации. Кромвели были родом из Уэльса, потомками Моргана Уильямса, хозяина гостиницы и пивовара из Патни, который женился на сестре Томаса Кромвеля, советника Генриха VIII и светского архитектора Реформации. Они взяли его имя из благодарности и уважения к человеку, по отношению к которому немногие, кроме них, испытывали эти чувства.
После тридцати лет Оливер Кромвель пережил сильное потрясение и облегчение духовного обращения и с того момента руководствовался в своем поведении молитвой и Писанием. Будучи членом парламента в начальные годы правления короля Карла, он выступал в оппозиции двору. Он был скорее добросовестным и серьезным, нежели влиятельным парламентарием в первые месяцы работы парламента, который в 1640 г. начал совершать яростные нападки на короля и его советников, кульминацией которых стала гражданская война. Но он был связан со многими лидерами пуританской оппозиции узами родства и брака, и когда парламенту понадобились силы для ведения войны, то немедленно собрал конный отряд.
Неожиданно в ходе войны обнаружился его природный талант. Его методы обучения преобразили его грубых сельских рекрутов в дисциплинированных солдат. Он настаивал на продвижении их по службе по заслугам независимо от социального положения. Под его влиянием те, которых он называл «простыми командирами в мундирах из грубой шерсти», поднимались до высоких чинов. Роялисты глумились над полковником Томасом Харрисом, когда-то служившим в юридической конторе, над полковником Томасом Прайдом, в прошлом якобы ломовым извозчиком, корнетом Джорджем Джойсом – отважным маленьким портным, который лично арестовал короля.
Качество выучки его армии нельзя было отрицать. «В Европе нет солдат, лучше этих», – сказал опытный шотландский профессионал накануне сражения при Марстон-Муре. После этой большой победы 2 июля 1644 г. отличная репутация Кромвеля была обеспечена. Под его влиянием парламент консолидировал свои силы, создав Армию нового образца – национальную силу, в которой господствовали его представления об обучении, дисциплине и продвижении по службе и преобладали религиозные воззрения индепендентов.
Они сделали Томаса Ферфакса главнокомандующим. Он был наследником огромного поместья в Йоркшире и самым выдающимся профессиональным военным в стране. Он назначил Кромвеля своим генерал-лейтенантом кавалерии, и вместе они привели эту Армию нового образца к победе. К весне 1646 г. король Карл бежал, чтобы сдаться на милость шотландцев, и война закончилась.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе