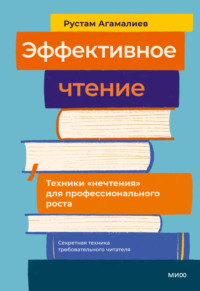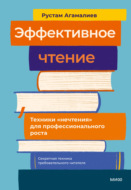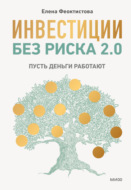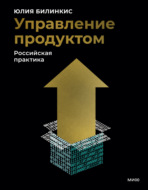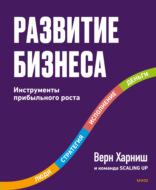Читать книгу: «Эффективное чтение. Техники «нечтения» для профессионального роста», страница 3
«Зрение чтеца» и структура представления информации
Мой сын в дошкольном возрасте любил рисовать по точкам: одна линия налево, две вверх, три по диагонали… Обычно в середине задания, которое мы с ним делали, он уже понимал, какой рисунок получается, и радостно вскрикивал «Кораблик!» или «Домик!». Чем больше он рисовал, тем лучше понимал шаблон, по которому создаются рисунки, и тем быстрее мог распознать, что получится в итоге.
Аналогично и в работе с текстом: опыт, какой-то уровень изначальных знаний и начитанность позволяют быстрее понять, о чем книга или статья, которую мы читаем. Чем больше нами прочитано, тем больше мы видим в текстах: замечаем не только структуру книги, но и то, что она из себя представляет в целом. Переходя к каждой новой книге, мозг читателя учится воспринимать ее целиком еще до того, как приступил к изучению. Прочитав аннотацию, оглавление, название и подзаголовок, первый абзац, увидев место, которое отведено книге на полке в библиотеке или магазине, читатель может практически безошибочно расположить это сочинение в своей системе координат.
Опытный читатель быстрее определяет связь между новым знанием и тем, что ему уже известно. Например, при чтении художественной прозы ярче проявляются свойства архетипов героев, а при чтении нехудожественной литературы тоньше чувствуется связь теории и практики, а еще читатель точнее понимает, по какой причине книга оказалась в поле его внимания.
Тренировка «зрения чтеца», как и развитие мышления, начинается с первого прочитанного рассказа и продолжается с каждым следующим текстом. С каждым новым повествованием у читателя может вспыхнуть любовь к чтению. (Например, у меня самые теплые воспоминания о стихотворениях Корнея Чуковского.) Уверен, что каждый может вспомнить книгу, рассказ или стихотворение, которое стало катализатором его любви или, в отдельных случаях, нелюбви к чтению.
Читая, мы тренируем мозг понимать пределы того, что можно выразить словами: что может быть написано в предложении, а что нет, какие слова обычно следуют за какими и в чем их функция.
• Прилагательные – описание. Они добавляют деталей в текст.
• Существительные представляют объект или субъект предложения.
• Глаголы – слова-действия. Они описывают, что делает субъект предложения в отношении объекта.
Рыжая кошка сидела на заборе
С опытом читатель учится не только декодировать слова с разных поверхностей, но и понимать, что эти слова означают, как они связаны друг с другом, какую функцию и роль исполняют в предложении. Самое удивительное в тексте – это даже не связи отдельных элементов, а то, что слова имеют невообразимое множество комбинаций.
Ноам Хомский, американский ученый, которого иногда называют отцом современной лингвистики, вслед за Львом Выготским считает, что умение видеть, декодировать и понимать значение слов на бумаге и в речи влияет на мышление14. Я попробую интерпретировать его идею и предположу, что чем больше читатель взаимодействует с текстом, тем быстрее он может понять, как размышлял писатель: будет лучше понимать структуру предложений, использованную автором лексику. Достаточно посмотреть на то, как пишу я, и можно увидеть: предложения длинные, местами перегруженные сложными терминами и понятиями. К моему слогу необходимо привыкать.
Текст книги, научной статьи, пост в блоге и даже надпись на заборе – это дверь в мозг автора. С помощью текста можно подглядеть за тем, как мыслил его составитель. Чем понятнее написано, тем яснее мышление. Чем логичнее написано, тем логичнее мышление.
Отличительная черта текста – предсказуемость
Работа с текстом – это, на мой взгляд, лучший инструмент для тренировки мышления.
Обычно любой текст имеет структуру и соответствующую лексику, задающую тон и настраивающую на нужную волну того, кто взаимодействует с написанным. Когда перед моими учениками в школе или университете появляется незнакомый текст, первое, что им предстоит сделать, – немного подумать. Это упражнение называется «гадание по названию».
Небольшая иллюстрация техники. Перед чтением статьи, главы или другого подготовленного мной материала я предлагаю учащимся поразмышлять над тем, о чем им предстоит узнать. Для этого я вывожу на доску какой-нибудь фрагмент текста, как правило, включающий в себя заголовок, подзаголовок и, может быть, вопрос, иногда провокационный.
СТАВКА НА ПЕРЕМЕНЫ (заголовок)
Заключение исландских банкиров под стражу иллюстрирует то, что интересы людей должны быть на первом месте (подзаголовок)
О чем вам предстоит прочесть? (вопрос)
На размышления им отводится две-три минуты. Необходимое условие выполнения задания – записывать возникающие мысли. Ниже представлены выводы, к которым пришли студенты четвертого курса бакалавриата, выполнив это задание. Вот несколько их ответов на вопрос, о чем предстоит прочесть:
• О том, как жажда наживы заставила пренебречь людьми.
• Опять банкиры ободрали простых граждан и за это поплатились.
• Делиться нужно, чтобы не «присесть».
Кто-то из них, бесспорно, прав, однако широта мышления впечатляет: от «интересов людей» до «делиться, чтобы не “присесть”». Каждое слово в структуре текста играет свою роль и оказывает влияние на мышление читающего. Скоро читатель этой книги сам испытает подобное.
Как прочитал подзаголовок студент, который подумал «делиться нужно»? Мне сложно сказать, но одно точно: мыслит он в этом случае несколько иначе, чем остальные.
Осмысленная работа с текстом открывает читателю возможность с первых слов практически безошибочно догадаться, о чем пойдет речь, или по крайней мере распознать направление, в котором разовьется идея. Наш мозг достраивает недостающие связи, прокидывает мостики между смысловыми единицами, а слова посылают сигналы, подсказывающие, что будет дальше.
Когда предложение начинается с «если», читатель ожидает следствия. Прочитал «однако» – ищет противоречие. Встретил в тексте «или» – начинает искать, что с чем сравнивают. Текст направляет мышление, а еще чаще – настраивает его.
Джон Барг в 1996 году опубликовал интересную статью, где описал забавный эффект, который позднее назвали флоридским. Трем группам студентов предложили составить предложения из, казалось бы, не связанных между собой слов, например they, her, send, see, usually15. Одной из групп достался список слов, ассоциирующихся с возрастом: забывчивость, лысый, седой, морщины и так далее. После того как они составили предложения, их попросили пройти по короткому коридору (в этом и заключался эксперимент). Студентов настроили текстом, и та группа, которая получила слова, ассоциирующиеся со старостью, шла по коридору дольше контрольной группы16.
Очевидно, что слова и текст влияют не только на мышление, но и на поведение, действия. Справедливо отметить, что окружающая среда тоже принимает участие в настройке. Моя гипотеза заключается в том, что слова – неважно, в письменной или устной форме, – сильнейший инструмент настройки мышления, и они служат не только для описания действительности.
Юлия Жукова, современная российская писательница, автор юмористической фантастики, романов о космических приключениях и любовного фэнтези, рассказала об аналогичном подходе при написании романа17. Когда ей необходимо говорить голосом персонажа, который ей не близок, недостаточно изучить речевые стереотипы, присущие этой категории людей. По ее мнению, у некоторых писателей имеется тот или иной набор книг и авторов, которые настраивают мышление определенным образом. У одного это Набоков, у другого – Платон, а третий читает графические романы. Речь, использованная кем-то для рассказа о чем-то, оказывает влияние на ход мышления и формирует у читателя и слушателя определенный шаблон и речевой стереотип.
Речевой стереотип
О речевом стереотипе есть интересная история. Говорят, Станиславский запрещал актерам на первых репетициях использовать текст своей роли из пьесы. Он требовал сыграть, избегая тех слов, которые использовал драматург. Актеры должны были передать смысл иным способом, для этого им приходилось думать над тем, как это сделать, и менять собственные шаблоны игры и поведения на площадке.
Текст и мышление неразрывно идут друг за другом, тесно связаны и предсказуемы. Предсказуемость текста – его сильная сторона. Если чтец обладает достаточным опытом, то по первым двум предложениям абзаца он может догадаться о ходе размышлений автора или предугадать возможный порядок событий.
Порядок слов в предложении – уникальный способ донести мысль, спровоцировать читателя на действие или удивить. Этот же порядок может превратить что-то банальное во что-то неожиданное, иногда не очень уместное. Предлагаю читателю немного похулиганить вместе со мной, дать волю фантазии. Представьте, что вы журналист и пишете статью о бездомных животных. К вам в руки попала сводка событий за прошедший день, аккуратно собранная кем-то из редакции. Первая строка сводки начинается со слов «собака укусила…». Продолжение сводки на следующей странице, но, прежде чем перевернуть лист, подумайте: что могла укусить собака? Лапу, другую собаку, хвост, человека? А что изменится, если вместо «собака укусила…» будет «человек укусил…»? Какое может быть продолжение? Руку, пирог, яблоко? Признайтесь честно, подумали ли вы о таком финале фразы, как «человек укусил собаку»?
Прелесть текста в том, что с помощью букв и слов можно выразить не только что угодно, но и любое возможное событие. Комбинаций слов бесчисленное множество, а если для какого-то явления у нас нет названия, мы его запросто выдумываем, создавая идеальное средство кодирования и передачи смыслов на расстояния и сквозь время.
Мысленная реконструкция процессов
Чтение – это не только средство получения информации из внешней среды, но еще и процесс умственной реконструкции чьих-то идей, неких событий, произошедших где-то, когда-то, с кем-то. Автор транслирует в книге свои мысли, как это делаю сейчас я, а читатель интерпретирует и реконструирует. Все, что вы прочитали до этого и прочтете после, – не более чем набор каких-то идей и практических приемов, сформировавшихся в результате моей деятельности как учителя, которые требовательному читателю, повторюсь, придется еще интерпретировать, перенести в новую ситуационную модель и реконструировать.
Выготский считает, что реконструкция проходит три стадии18. Первая стадия – при первом контакте с информацией, в тот момент, когда мы произносим, пусть мысленно, текст, то есть при чтении. Вторая – внутренний процесс, при котором полученная информация усваивается и становится межличностной. На этом этапе мы приняли идеи автора, они вызрели в сознании на достаточном уровне и стали уже не только идеями автора, но и нашими. Часто при такой трансформации автор забывается. Мы можем искренне считать, что это уже наша мысль, пусть и кем-то подаренная. Последний, третий этап – деятельностный. На этом этапе присвоенная идея превращается в действия или новый шаблон поведения и уже не требует ничего дополнительного для определенных шагов, связанных с ней. Нам больше нет нужды читать оригинальный текст автора или свои заметки относительно этой идеи. Выполнение становится интуитивным и помогает координировать остальную деятельность.
Время – крайне абстрактная концепция, придуманная человеком для человека. Дети на каком-то этапе не очень хорошо понимают ее, и взрослым приходится им помогать, объяснять, рассказывать о времени. Ребенка, не обладающего этим знанием, регулируют извне, обычно родители или старшие сестры и братья. Однако как только концепция времени усвоена на необходимом для саморегулирования уровне, поведение ребенка изменяется – он сам отлаживает свою деятельность. Не всегда умело, не сразу хорошо, но обычно это уже становится заметным.
В таком же стиле можно рассуждать и о чем-то более сложном, например о спусковых крючках, о которых Максим Дорофеев написал в книге «Путь джедая»19. Крючки тоже являются абстрактной концепцией20. Название говорит само за себя: это то, что напоминает, не дает забыть действие, которое необходимо выполнить, или задачу, которую следует решить. Однако пока мы не присвоили идеи Дорофеева и не научились разгружать память спусковыми крючками, наше поведение не изменится. А это уже третий этап реконструкции идеи. Прочитали, осознали, выполнили. Текст, получается, – средство трансформации не только мышления, но еще и поведения и деятельности.
Текст – это молоток, который помогает строить образ реальности
Точнее и не скажешь: текст, письменный или устный, – это молото, который требовательный чтец использует, чтобы сколотить некий образ реальности. То есть текст становится инструментом, который мы используем, чтобы думать и делиться тем, что надумали. И как любой инструмент, например концепция времени, он создан человеком для человека, чтобы решать задачу – распространять идеи сквозь пространство и время. Но иногда этот процесс дает сбой.
Текст и язык, на котором он написан, не всегда справляются с этой функцией. Позволю себе немного порассуждать на эту тему на примере сложного и печального явления – войны. Великая война, которая началась 28 июля 1914 года с убийства Франца Фердинанда и закончилась подписанием мирного соглашения 11 ноября 1918 года, изменила свое название с Великой на Первую мировую в 1939 году, в момент начала следующего глобального конфликта. Историки выбрали другое название ретроспективно, так как никто не мог представить второй конфликт аналогичного масштаба. Но он тем не менее произошел.
Получается, в нашем воображении не было представления о том, что может случиться вторая Великая война, но как только она началась, пришло осознание, что не все так просто в этом мире. В этом месте у меня возникает логичный вопрос: какие решения принимали бы правительства стран, если бы у Великой войны сразу был порядковый номер? Иными словами, была бы возможна вторая мировая война, если бы мы знали, что Великая – лишь первая? Человечество представить этого не могло, вот и использовало язык и текст, который чрезмерно упрощал события и не предполагал, что история может повториться.
В этом месте невозможно не вспомнить Эйнштейна. К концу 1940 годов, когда мировое сообщество прошло все стадии принятия и признало, что живет в новой атомной реальности, на вопрос корреспондента о том, какой будет третья мировая война, Эйнштейн ответил, что он не представляет, какой она будет, но может сказать, какое оружие будет использовано в четвертой, – камни21. Одно простое предложение, а возможно и слово, уместно использованное в нужном контексте, строит образ текущей реальности и возможного будущего.
Одно из уникальных свойств человека – думать не словами, а образами, метафорами и сформированными шаблонами22, неким подобием модели, выстроенной полностью из текста, с которым он взаимодействует на протяжении жизни. И вот какое интересное наблюдение: если определенный факт не вписывается в модель реальности, которую человек сконструировал, этот факт остается незамеченным. Именно поэтому так важно научиться работать с текстом – чтобы уметь взглянуть за пределы реальности, часто сконструированной кем-то для кого-то с какой-то целью. А для этого необходимо не просто хорошо читать, а быть требовательным читателем. Читателем, который особенным образом смотрит на информацию и «не-читает» больше, чем читает.
Глава 3. Загадочная роль требовательного чтеца. Сложный путь к осмысленной работе с информацией
Чтение с ручкой в руках. – Лицемерие школы, уродующее читательский потенциал. – Отравление тяжелыми металлами. – «Нечтение» требовательного читателя. – Путь от неумения читать к требовательному чтению. – Паутинки идей. – Стань библиотекарем. – С высоты птичьего полета, или Короткая черта под всем сказанным. – Список литературы
Комментарий автора: со следующей главы в книге появятся упражнения. Их выполнение необязательно, чтение останется приятным и без них. Однако тем, кто решит их выполнить, понадобятся некоторые вспомогательные элементы: полное оглавление и аннотация (одна на все упражнения).
Прочитав эту часть книги, вы узнаете о роли требовательного читателя, о его отличиях от хорошего читателя и о методах избегания информационного перегруза. В этой главе представлены идеи сбалансированного подхода к чтению, важности размышлений над прочитанным и стратегии «нечтения». Включены исторические параллели с Древним Римом для иллюстрации концепций. Раскрыт взгляд на процесс обогащения словарного запаса, а также освещены советы по эффективному чтению и пониманию текста.
Чтение с ручкой в руках
Чтение без ручки в руках – пустая трата времени.
С этого утверждения хотелось бы начать размышления о том, кто такой требовательный читатель.
В школе, университете, дома за чашкой чая или укрывшись пледом у камина, – читаем мы одинаково. Чтец скользит глазами по тексту, иногда отводя взгляд в сторону, а затем снова возвращаясь к нему. Так оно выглядит не у всех, но у подавляющего большинства. По крайней мере, такой процесс описывает большая часть опрошенных мной респондентов, а я наблюдаю схожие поведенческие шаблоны среди своих студентов и учеников.
В школе, получив задание прочесть что-то, дети опускают глаза в книгу и расшифровывают символы на бумаге, превращая их в слова, которые в уме складывают в предложения, а предложения – в абзацы. В университете дело обстоит еще интереснее: большинство студентов, особенно выпускных курсов, уже забыли, что значит держать бумагу в руках, а чтение превратилось в некий автоматический процесс распознавания знаков на экране гаджета.
Подобное чтение бессмысленное, неважно, что в наших руках: статья из перечня ВАК23, научно-популярная книга или художественный роман. Чтец редко извлекает что-то из текста, если у него отсутствуют специфические шаблоны мышления и работы с информацией.
Мышление – само по себе сложная деятельность, а умение размышлять над прочитанным, услышанным или увиденным – это мыслительная функция высшего порядка. Функция, для успешного выполнения которой необходимы навыки наблюдения и рефлексии, умение проектировать ситуации и проводить эксперименты, использовать опыт других и свой собственный, а также способности делать запись результатов деятельности, хотя бы в форме лабораторного журнала и дневника.
Совсем недавно студентам выпускного курса института иностранных языков на практике речи я предложил прочесть довольно интересную статью на английском языке. Это прекрасная тренировка восприятия академического английского. Автор статьи раскрывает любопытный методический аспект, который можно использовать на уроках английского языка. Первый шок у студентов был связан с тем, что читать придется восемь страниц текста. Эту неприятность они преодолели за двадцать пять минут – фантастически долгое время для такого объема. Настоящее изумление ожидало меня, когда я спросил их, какой ключевой вывод или предположение делает автор статьи. Ответом была тишина, потерянные взгляды и растерянность. Нехотя студенты признались, что думать над статьей они и не пытались: им была поставлена задача прочесть, вот они и читали, а двадцать пять минут чтения измотали их. Они устали и оставшийся от пары час были не в состоянии выполнять иную работу, напрямую связанную с прочитанным текстом.
Я перефразирую, чтобы было понятнее: студенты, которые до этого четыре года учились в университете, устали от прочтения восьмистраничной научной публикации. Публикации, над которой автор постарался, сделал ее доступной и понятной независимо от иноязычной компетенции читателя. (Вы можете сами в этом убедиться – в списке литературы к этой главе есть ссылка на статью Йо Хамады24, она в открытом доступе.) Завершив чтение, студенты не смогли сформулировать вывод и предположение, которое сделал автор в статье. Я даже не стал спрашивать дальше: какие практические приемы он предлагал, как их можно адаптировать под среду средней общеобразовательной школы или высшего учебного заведения, какая серия упражнений напрашивается и как методика, предложенная автором, может «причинить пользу» учащимся. Четыре года университета, написание рефератов, курсовых, ведение конспектов не научили моих студентов размышлять над прочитанным. А именно размышления, на мой взгляд, и являются самым важным процессом в понимании прочитанного.
Несколько лет назад предметом особой гордости для меня была фраза: «Я читаю от сорока пяти до шестидесяти книг в год». Сейчас мне стыдно это произносить. Пять, десять, двадцать, хоть сто книг в год – это лишь число, которое никак не отражается на человеке. Вместо количества прочитанного следует задуматься над результатом такого чтения: как тысячи прочитанных страниц повлияли на мою ежедневную деятельность? Каким образом изменилось мое поведение? Что я делаю иначе после прочтения книги?
Чем больше усилий вы прилагаете к тому, чтобы подумать о прочитанном, посмотреть, как новая информация отражается на деятельности, послушать свои эмоции и понаблюдать за собой, тем глубже понимание прочитанного. Наблюдение за собой – это тоже эксперимент. А эксперименты, как мы знаем, требуют лабораторных журналов и умения делать в них записи.
В книге еще будет отдельный небольшой блок, где я расскажу, как делать заметки. Он посвящен концептуальным особенностям умелого заметковедения. На мой взгляд, это самый важный момент в осмыслении информации, но он происходит уже после чтения. Как отметил Мортимер Адлер в своем труде «Как читать книги»25, читатель обязан быть требовательным к изучаемому материалу, к себе и тем выводам, к которым он приходит: он должен быть сфокусирован на том, что делает, задавать вопросы и воспринимать чтение как активный, а не пассивный процесс.
Пассивность – так можно описать чтение моих студентов: они скользили глазами по буквам, не извлекая из этого никакой пользы. Такое чтение приносит исключительно усталость, как и любой монотонный труд. Беглый взгляд на текст не подразумевает использования интеллекта для понимания этого текста. Чтение – это механика, а размышление – это творчество. Требовательный читатель умело комбинирует механическую работу с творческой.
Требовательность к чтению заключается в привычке осознанного размышления над прочитанным. Размышление – это не сократическая пауза на целый день, когда стоишь и думаешь над десятью словами, а чтение с исключительной концентрацией. Это переход от абзаца к абзацу с сохранением фокуса на проблеме, которую книга, статья или другой источник информации призван решить.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе