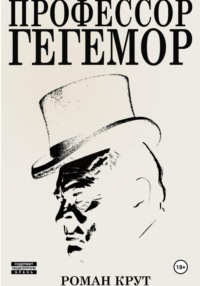Читать книгу: «Профессор Гегемор», страница 4
– Лечат и лечат, и пусть себе лечат… главное не трогают. – высказался Тумба Юмба.
– Известно от чего, – хмыкнул Иван Иваныч, – от Свободы и Истины. – трое по ту сторону промолчали.
– Когда уже пойдем в столовую еду в рот класть? – выкрикнул Ибрагим, услышав о пище. – Очень уж кушать хочется.
– Скоро Ибрагимушка, скоро. – ответил Иван Иваныч, покрутив стрелки на своих наручных игрушечных часах.
– Тебе лишь бы пожрать! – выкрикнул Тумба Юмба.
– Ты сам больше всех в рот кладешь, – заявил Ибрагим, – и на работу не ходишь, говоришь, что спина болит. Второй год не ходишь. А нужно только помидоры и огурцы в парниках брызгать такой вонючей синей жидкостью, от которой потом голова больно болит. – жаловался Ибрагим, завидуя Тумбе Юмбе.
– Дурачок ты, дурачок, – ласково назвал его Иван Иваныч. – респиратор нужно одевать. Ибрагим удивился новому слову.
Тучный Тумба Юмба сменил свое лежачее положение на сидячее и сказал:
– Чего это я должен на них батрачить? Waende kuzimu! Хр-хр-хр… – посмеиваясь протрещал Тумба Юмба и показал дулю, неспеша поводив ею туда сюда, чтобы ее хорошо рассмотрели обитатели трех коек. – Буржуи вынудили меня покинуть родную пальмовую рощу, когда-то богатую алмазами и золотом. Все выгребли мерзавцы. Shetani awale! – выкрикнул он. – А раз вынудили, пусть теперь и содержат молча, не заставляя батрачить. Хватит! Мои предки на тростниковых плантациях уже за все поколения вперед отбатрачили, положив там свои жизни, чтобы буржуи разбогатели. Тумба Юмба превстал и посмотрел в сторону криво ухмыляющегося Ковбоя Джека и Смол Бена, который делал вид, что ничего не слышит, продолжая делить карандашом Атлас Вселенной. – Да, да… вы думаете, что раз мы из далеких регионов, то нам ничего не известно?.. Ошибаетесь! Не зря они меня сюда упекли. – грустно проговорил Тумба Юмба. – Они купили все наши регионы и земли, а с ними и правителей с потрохами! – не удержался Тумба Юмба, и по привычке схватился за дубину. Ибрагим тем временем вынул из под подушки небольшой перочинный нож, и, с идиотской улыбкой, посмотрев на Тумбу Юмбу, пробормотал: “Секир башка, секир башка…” – и провел ножом в районе горла. – Их они тоже купили! – защититься хотят их дармовыми телами. Они ведь того… как это слово?.. без мозги. – Безмозглые. – поправил я его. – Sahihi! Хр-хр-хр… – с диалектом и басом посмеялся Тумба Юмба.
– Слышишь, Ибрагим, они ведь о тебе говорят. – подстрекал Ковбой Джек.
– Оставь ты его в покое, – вмешался Смол Бен, – он запрограммирован на две команды: фас и стоп! Не тревожь ты его серое вещество зря. Скоро, я чувствую, он нам понадобиться… А насчет купили! – громко произнес Смол Бен, – я скажу так: всех, кто продается, мы покупаем. Теорема проста.
– И нас вы тоже купили. – недовольно промолвил Ганс Бюргер и покосился на соседа. – Да что вас покупать?.. – язвил Смол Бен, отложив Атлас в сторону, – сосиски и пиво! вот и все ваше счастье. Корчите из себя самую пунктуальную нацию, а сами пыжитесь всеми поджилками, выдавливая из себя забытого Бигом Арийца, и работаете, как рабы, придушивая свободу до состояния мизерного издыхания. Ганс Бюргер пожалел, что не было люгера под подушкой.
– Никому не секрет, что и нас они тоже купили. – вставил словечко Иван Иваныч. – Наши думают, что они сами с усами, но не тут то было… уж давным-давно, как продались все и тоже с потрохами.
– Ваших легче всего было купить. Плевали они на своих пациентов с высоких палат. – язвил Ковбой Джек, подмигивая соседу справа. – Самая ленивая нация, которая больше корчит из себя, чем что-то может… все мозги ваши уже давно у нас, а у вас, одни патриоты и остались. – усмехался он. – Может быть ты и прав. – соглашался Иван Иваныч. – Ну, а с вами то и так все понятно… – произнес на выдохе Иван Иваныч. – У вас недосвобода и антидушевная конституция, другими словами, полная клиника; а вот Смол Бен?.. – Иван Иваныч сделался серьезным, – не много ли он на себя берет?.. Пологая, что только он и является пупом земли, – он немного помялся и уже с присущей ему улыбкой добавил, – с нулевым меридианом в заднице.
– Das ist wahr! – обрадовался Ганс Бюргер, все еще сожалея, что добровольно отдал Люгер при заселении, хотя никто не требовал и не отбирал.
– Все вот эти, – кивнул Тумба Юмба головой на Ковбоя Джека и Смол Бена, – они ведь тоже работать не хотят, – хотят только править и командовать, а на самом деле такие же kichaa, как и все! Джек с Беном ничего не сказали в свое оправдание. Один Ганс Бюргер хотел заявить, что работа – это самое главное в жизни, что она облагораживает пациента, делая из него, может быть даже человека, но побоявшись черной, как смола, толерантности, промолчал.
– Вы так перегрызете друг друга. – вмешался я. – Вы утратили Человечность! Нужно бежать из психушки! – обозревая слабоумие и неосознанность, от всего происходящего, мне было сложно сдерживать свои эмоции, хотелось хоть чем-то им помочь, хоть как-то вывести их из мозгового cul-de-sac, – но не бежать из больнички, она какая ни есть, все же дом наш; вы поймите меня правильно, бегство должно быть осознанным. Это бегство сознания! Не бежать от себя, а наоборот вернуться в себя, познать себя сызнова. Бежать из психушки и бежать внутрь, это одно и тоже. Бежать без оглядки, а потом на каком-то отрезке пути, в тот момент, когда сознание настигнет вас, остановиться, сесть в тишине и уединении, и сфокусировавшись, начать бег в другую сторону: на ходу вы сможете переосмыслить весь путь пошагово, каждое действие, каждую проплывающую мысль – понять, ваша она личная или нет, или сфабрикованная лаборантами и врачами, или самим Гемором, этим исчадием ада, этим… – резко врезавшийся в замочную скважину железный длинный ключ, своим железным, жестяным звуком придал палате стальное, обездвиженное состояние, а металлический щелчок мгновенно обездушил ее.
– Либериус, на выход! – прогремел строгий голос охранника. Почти все обитатели палаты выдохнув с облегчением, сочувственно посмотрели ему вслед. Либериус с грустью еще раз взглянул на сырую осень за окном, вздохнул, и у дверей, улыбнувшись провожающему веселому взгляду Дзинь Дзиня, хлопавшему раскосыми глазами из под одеяла – махнул увеселенно всем головой и вышел.
– Ну, вот и всё!.. Еще раз, другой и его психика больше не выдержит… Неужели так сложно просто молчать?! – подвел итоги Ганс Бюргер.
– А мне нравится! – вскричал Ибрагим. – Красиво рассказывает…
– Если бы ты понимал ещё, что он говорит… – съязвил Ковбой Джек.
– Он прав. Он во многом прав… Я понимал в свои молодые годы многое, но не так отчетливо, как Либериус. – согласился Иван Иваныч. – А сейчас я уже стар, – нет во мне сил на борьбу. – вздохнул он. – Да, и бежать уже нет смысла, даже внутрь – поздно!
– Вот лучше и молчите. Что уж начинать… Куда нам?.. – иронизировал Ковбой Джек.
– Мы, другая планета существа, – сказал Тумба Юмба пряча дубину под кровать, пологая, что никто из охранников не ведает о ее существовании, так же как и о ноже. – Инопланетные, – поправил Иван Иваныч.
– И Либериус уже немолод, а все туда же… Что они сейчас с ним сделают, самому бигу известно… – добавил Смол Бэн и, покрутив левой рукой над головой, придвинул к себе атлас. Звонкий смех Дзинь Дзиня гарпуном вонзился в костополоскание, а пустые белые стены отрикошетили его, придав палате сюрреалистическую, дружескую атмосферу.
Глава 5. Дежавю
В пронзительно белом до неприятности коридоре горел яркий, снежно-белый свет. Странно… не бьют пока?.. Вспомнив, и ощутив боли в ребрах от предыдущих побоев, думал Либериус, следуя за охранником. Смирительную рубашку сняли, что тоже очень странно?.. Проходя мимо чистого, прохладного где-то даже уютного карцера, где после предварительного избиения и дозы одурманивающего препарата, две недели, по словам Иван Иваныча, пролетели как два дня, Либериус где-то даже пожалел о том, что они миновали его, следуя в неизвестность. Неужели электрический стул?! Он вспомнил, как когда-то ещё в далёкой юности его молодого, полного сил и энергии настигла первая Вселенская война, когда враг напал незаметно, покоряя район за районом, корпус за корпусом, палату за палатой, и когда их, бравых солдат, совсем зеленых, не видавших жизни, не имеющих опыта и времени, чтобы успеть разобраться в антинародной геополитике, выстроили в ряды, приказав биться насмерть, не жалея живота своего; тогда он вышел и сказал: “Может быть все таки стоит пожалеть живота своего и поступить благоразумно: впустить врага и продолжить жить так, как и жили с животом и с какими никакими, но частями тела. Ведь от замены одного хозяина на другого (из того же племени или из другого, без разницы), все равно ничего не поменяется, а жизни сохранятся?” Все солдаты посмотрели на него тогда так, как смотрят на врага, желая тут же расстрелять на месте, не понимая, что он в тоже время смотрит на их животы, руки, ноги и головы, которые вот-вот под действием привитого патриотизма разлетятся по сторонам, осчастливив кого угодно, но только не их самих; и из-за переживаний за ближнего, как за самого себя, Либериуса тут же посадили в обшарпанный, холодный, грязный и вонючий карцер на несколько дней (объявив пацифистом), пока не закончилась война, и порядочное большинство бравых, самоотверженных, бессознательных молодых солдат не расстались там со своими недозрелыми душами. Кому это было нужно, в конце концов, никто так и не узнал, и не узнает от неохоты узнавать, так как узнав значимое, есть вероятность поверить в незначимость самого себя. Но проведя несколько дней в карцере, Либериус пришел к выводу: “Чем громче дурак будет кричать о патриотизме, тем дольше будет продолжаться война. А чем дольше продолжается война, тем больше дурак будет рождать дурака. Замкнутый круг, который разомкнется лишь в том случае, когда Профессор Гегемор решит, что довольно и запоет песнь о мире во всей Вселенной. Без Профессора получается не хватает у постояльцев извилин, чтобы понять их собственное предназначение и полную независимость от посторонних. Наверное, Гемор им просто необходим, заключил Либериус. Если не хотите слушать меня, думал он про себя, сидя на каменной, гладкой и ледяной скамейке, почитайте хотя бы наших, живших не так давно, всем известных нам индивидуумов, чьи умы и поступки уж куда просвещенней наших “квасных”. Марк Твен говорил: “Душа и суть того, что обычно понимают под патриотизмом, есть и всегда была моральная трусость.” Когда спросили Джеймс Джойса в 1916 году во время Пасхального восстания: готов ли он умереть за Ирландию, он ответил: “Пусть Ирландия умрет за меня.” Бертран Рассел говорил: “Патриотизм – это готовность убивать и быть убитым ради заурядных причин.” Джордж Бернард Шоу: “Патриотизм – разрушительная, психопатическая форма идиотизма.” Альберт Эйнштейн: “Патриоты, марширующие в строю под музыку, получили головной мозг по ошибке: для них и спинного было бы достаточно.” Лев Толстой: “Патриотизм, есть рабство!”
Они прошли через кучно охраняемую зону, куда обычно никто не допускался кроме “врачей специалистов”, и без стука вошли в кабинет главврача.
– Вот ты какой… – бесцеремонно и недовольно прохрипел главврач, которого простые душевнобольные могли слышать только по радиоле или созерцать по вральнику. Либериус молча рассматривал роскошный кабинет с длинным столом, тринадцатью стульями, огромной люстрой и кожаными креслами по углам. На краю стола стоял поднос, а на нем тарелка с пережаренным окорочком, репой и пересушенной печеной картошкой. – Могу я предложить тебе что нибудь выпить? – ради приличия поинтересовался невзрачный, маленький главврач, с пустыми глазами. Охранник вышел, плотно прикрыв за собою дверь.
– Компот. – попросил Либериус. Блестящий эбен, которым была отделана вся комната, отрикошетил неприятный смех незадачливого назначенного Гегемором продажного главврача.
– Компот… – усмехнулся он. Такого не держим.
– Тогда просто воды. – невзрачный главврач, с потерянным видом, недовольно наполнил стакан и поставил на стол перед больным.
– Вот, поешь. – указал он на поднос.
– Дайте мне пятнадцать минут, не могу есть когда на меня смотрят. – главврач вышел. Вернувшись ровно через пятнадцать минут, спросил:
– Ты знаешь чего ты здесь? – следом вошел охранник, он же официант, и забрал поднос.
– Нет.
– Несколько лет назад ты подвозил в своей бричке одного очень влиятельного господина. Помнишь?
– Помню. – не задумываясь ответил Либериус.
– Так вот, – продолжил главврач и глотнул виски со льдом, – к нам обратились с просьбой доставить тебя к нему. Зачем ты ему понадобился?.. – вопрошающе посмотрел он, – не понимаю?.. Вообщем не важно. Важно то, чтобы ты лестно отзывался о нашей психбольнице, о той, где ты провел свое прекрасное детство и юность, и о её постояльцах. Я знаю, ты не считаешь себя нашим обитателем, успев уже объехать всю Вселенную и нахвататься посторонних привычек, благо больница у нас обширная, позволяет это сделать, объемы, как говорится, не громоздкие… – он запил свои слова и поставил пустой стакан на стол, лёд, ударившись о хрусталь, издал приятный звон. Они сидели в конце стола напротив друг друга. Высокий, поджарый, уверенный в себе Либериус, с орлиным носом, серьезным лицом и истиной в глазах, и маленький, толстенький, наигранный главврач, который не знал как себя вести перед простым постояльцем, изо всех сил стараясь показать свою простоту и человечность, не скрывая в то же время превосходства и нарочитой значимости. Либериус смотрел на него в недоумении: “Какого черта?..” проносилось в его голове. Откуда в самом центре Вселенной этот главврач, о существовании которого он успел за долгие годы позабыть.
– Дай мне обещание, что не будешь наговаривать на родные пенаты? Хвалить можно, а вот критиковать – нет! Понял? – Либериус ничего не ответил. Он выпил залпом полный стакан воды и отрешенно посмотрел на главврача, совершенно постороннего для него человека, думая в тоже время о своем…
– Мне нужна одежда. – попросил Либериус. Главврач позвонил в колокольчик, вынув его из кармана пиджака. Охранник внес поношенные, когда-то черные штаны, не новые туфли, рубашку не первой свежести и изношенное практически до дыр пальто.
– Примерь. – Либериус улыбался, глядя на то, как его когда-то “родные” пенаты снаряжают в дорогу. Лучшего я и не ожидал. Щедростью и здравомыслием они никогда не отличались, как врачи так и пациенты – собственно, какие врачи такие и пациенты, думал он про себя.
– Ты думал тебе Пьер Карден поднесут? – лыбился главврач, видя ироничкское выражение лица Либериуса. – Не для того старик девяносто восемь лет прожил, чтобы таких как ты бродяг одевать. – Попробуешь ляпнуть что-то не то при встрече – сгноим в карцере, а потом вышвырнем на улицу. Иди уже, тебя внизу ждут. Либериус вздохнул и с жалостью посмотрел на самодовольного, не знающего своего дела, главврача, который понятия не имел, без выдаваемого ему каждый день сценария, как править, что говорить и, когда? Такие как он, что они могут знать о жизни под одним одеялом?.. их не посвящают в постельные интрижки, там, в одной кровати, достаточно место лишь для имперских главврачей, остальные сошки пусть покорно правят своим захолустьем, вернее, думают что правят, а еще вернее, просто развлекают всепоглощающую публику, думал про себя Либериус, спускаясь вниз по широкой лестнице. А те или другие могут ли они править вообще? У кого это правление сейчас получается? И получалось ли когда-нибудь?.. И тем не менее… многие постояльцы не то чтобы не жалуются, они даже восхищаются!.. Дурдом! В дурдоме дурдом, – дурак на дураке и дураком погоняет. Родные пенаты… хмыкнул вслух Либериус, – их можно сравнить разве что с помойным ведром, переполненным через края, над которым летают мухи и пасутся падальщики, чтобы ухватить лакомый, уже бесхозный, кусок. Я помню эти, так называемые, пенаты… и отчетливо помню свои мысли в тот момент, когда от нехватки воздуха решил пересечь границы корпусов, мысли, сложившиеся тогда в небольшое стихотворение:
“Как трудно мне на них смотреть
И видеть солнца край,
Который спрятан в темноте
И нет дороги в рай.
По тёмным улицам бредут
Все дальше от светла.
Таким путем они придут
В заблудшие места.”
И, как бы мне не нравились природные просторы нашей серой зоны, но общественная помойка все же выдавливала меня из этих регионов, не позволяя вздохнуть полной грудью.
Глава 6. Задушевный разговор.
Либериус вышел на улицу, холодный ветер с дождем обдали отвыкшее от разных погодных условий лицо. Он запахнул пальто, глубоко вздохнул и с долей удивления сел в открытую перед ним дверь длинного черного лимузина. Как быстро все меняется… просто на глазах. Ехали они недолго, дольше стояли на светофорах, которые были натыканы почти на каждом перекрестке, один из которых не работал. Несколько лет назад здесь проезжали разные повозки, кареты, дилижансы, цокотя в такт подковами: цок-цок-цок, цок да цок, а сейчас слышится шум, гул и рев моторов, писк резины и газы, газы, газы… Глядя в закрытое, пуленепробиваемое, тонированное окно, Либериус ужасался от увиденного: по улицам между корпусов и бараков, среди всех достопримечательностей и чудес света, кучками бегали оголтелые варвары, блистая сталью тесаков и пламенем факелов. В самом центре, где когда-то гуляла опрятная публика, сейчас светились машины, магазины, бензоколонки, а также цхкверхкви и очень даже приличные корпуса, отличавшиеся от всех остальных своей изысканной архитектурой; жандармы стояли в ожидании какого-то чуда, а люди метались кто куда, лишь бы не попасть под горячую руку приглашенных Гегемором “добрых” варваров, которым когда-то были созданы все условия для приличной, покорной жизни, но нет, традиции есть традиции, и старинные, никем из них не позабытые, нравы, устои и обычаи берут верх над сознанием, которое не успело переродиться – сформироваться. Варвар остается на веки варваром. Проехав знакомые глазу места, машина остановилась у самой башни, швейцар открыл дверь. Смеркалось, дождь и ветер прекратились. Кое-где на небе, чуть выше макушки башни, виднелись звезды. Либериус вышел и направился прямиком к лифту. Лакей, стоявший внутри, проследовал за ним. Либериус вошел и ступил на мягкий уже знакомый ему ковер.
– Последний этаж! – громко сказал лакей и вышел из лифта. Мысли Либериуса, как обычно, это у него происходило в часы спокойствия, отсутствовали. Какая-то внутренняя улыбка безразличия посещала его в такие моменты и больше ничего. Он даже не думал и не предполагал, для чего его вызвали, что нужно Гегемору, и он ли его вызвал или еще кто?.. Ему было все равно. Лифт остановился. Либериус вышел и оказался в небольшом проходе, стоя на черных вековых отполированных до блеска булыжниках перед тяжелой резной деревянной дверью с массивной бронзовой рукоятью, с левой стороны он увидел последние ступени винтовой лестницы ведущие вниз в слабо освещаемую темноту, и маленькое круглое окно, чуть больше человеческой головы, в виде иллюминатора. Либериус подошел и посмотрел в него: вид падал на западную часть Вселенной, которая казалась довольно оживленной: народ с высоты птичьего полета виднелся совсем маленьким и озабоченным, снующим хаотично туда-сюда… Люди… общество… пролетело в его голове. Он отрешенно посмотрел в иллюминатор приплюснув нос в стекло, а мысли мгновенно стали наполнять его отдохнувшую совсем недолго голову. Куда они движутся?.. Чего хотят?.. И хотят ли чего-то вообще, кроме денег?.. Сегодняшнее общество, это больная тема, такая же больная, как и её местная неизлечимая публика – публика душевнобольных, которая явно выявилась после последней операции проделанной Гегемором, которая поставила все на свои места. “И страшно то, как разъяснял всенародный – антинародный знахарь Правдолюбов, что теперь промежутки между счастьем, радостью, свободой какой никакой и болезнями, пандермиями и всякими невзгодами будут сокращены, раньше, в лучшие времена, – с придыханием вещал знахарь, – промежутки были длиннее и публика в меру своей короткой памяти забывала все и сглаживала, начиная “новую, счастливую жизнь”, что конечно же правильно, теперь же все будет иначе, – утверждал он, – теперь Гегемор будет вести поистине гибридное существование, контролируя нас разной заразой и войнами. И, если раньше, как я уже сказал, – говорил он, – мы очухивались за 30-50 лет, то сейчас это будет колебаться между 5-тью и 10-тью годами – чтобы не расслаблялись, – уточнял Правдолюбов, – пока не избавятся от неугодного им числа, придя к намеренному. “Страшно, но факт. Нам нужно сплотиться, соединиться, в порыве одном отстоять – укрепиться!” – с выражением безысходности кричал в рупор Правдолюбов, которого местные жандармы избили и утащили с центральной площади под рёв душевнобольных: “Распять этого Правдолюбова, Варавву на свободу!” и определили его в закрытую психушку, объявив душевнобольным террористом, а террористам преподнесли толерантность, чтобы они и дальше могли безнаказанно терроризировать, прикрываясь повсеместно толерантностью. Народ обозлился и разделился сам, так ему хотелось по-видимому всегда, где-то в глубине чего-то… Те, которых всегда большинство, стали на сторону Гегемора и “честных врачей”, остальные, неподвержденные панике, взялись за руки и закрыли глаза, чтобы не видеть тех, кто терял рассудок, и которым помочь было уже совершенно невозможно. “Великое дело делаем!” – звучал безликий голос Гегемора из радиолы, а вральник транслировал одни ужасы центрального канала. Стукачи стучали, стучали, застукивали, настукивали на своих же соседей – сегодняшних врагов, вчерашних друзей. Делили, делили, но не могли поделить и все же разделились! После этой операции даже в самых спокойных, но не особо цивилизованных районах, стали происходить войны, которые выгодны тем, кто их устроил. На улицах в разных частях Вселенной стали встречаться больные из соседних регионов, грустно бредущие из одной части госпиталя в другую, ищущие удовлетворения и пристанища. Все захотели жить. До этого я не знаю, чем они там занимались?.. “Фиксируй, фиксируй!..” Выкрикивал кто-то из обезумевшей толпы в тот момент, когда я без противогаза, но с блокнотом, прорывался против их течения. Вероятно, глубоко внутри у тех, кто кричал мне вдогонку, еще догорал огонек здравомыслия, просто податливость толпе, слабость и трусость возжигали новое пламя в другом потустороннем месте, не там где нужно. Все смешалось, все перемешалось, разделилось, расплескалось, разложилось и распалось, – тело бренное осталось. Из этого маленького окошка, прекрасно наблюдались пляжи, где отдыхающие развлекались, купались и загорали, а чуть в стороне, наблюдалась совсем другая картина, где люд носился как угорелый… Смотря на все происходящее, в голове Либериуса всплыл стих, написанный им не так давно, в психушке:
“Я раб! Я убежал на время:
Часы под солнцем коротать,
Чтоб повседневной жизни бремя,
Забыть! и не припоминать.
И после праздных дней опять;
После закатов и рассветов,
Как в омут с головой нырять
И быть рабом системы этой.”
Стараясь мгновенно избавиться от посторонних мыслей, Либериус отошел от иллюминатора и подошел к двери, но не спешил входить. Зачем я здесь, в этом логове? Наверное, за тем, что здесь лучше, чем там?.. Наверное… Не знаю… Я ведь здесь никогда не был. Хотя нет, когда-то был… Когда-то уже был, но быстро ушел, не успел как следует разобраться – вкусить… И сейчас сново здесь? Может быть судьба?.. Слишком много вопросов. Либериус уверенно нажал на рукоять и дверь отворилась. ПахнУло тишиной, стариной, тусклостью и духотой. Старые, заношенные, чужие туфли, ступили на темнозеленый в светлую точку истертый годами ковролин. Панорамная круглая комната с завешенными темнозелеными, тяжелыми, бархатными шторами окнами казалась на первый взгляд пустой. Свет горел настолько тускло, что приходилось всматриваться. Либериус находился ровно на тридцати минутах, если ориентироваться по циферблату часов, по отношению к комнате и вещам там находившимся; он снял чужое ветхое пальто и повесил его на железную вешалку у двери, внимательно окинув взглядом просторное помещение со спертым, пыльным воздухом, из-за которого казалось, что сюда давным-давно уже никто не заходил. Так пах чулан у моей бабушки в глиняном доме с соломенной крышей, подумал Либериус, – чулан, который не проветривался и куда я старался заходить крайне редко. С правой стороны, куда практически сразу упал взгляд Либериуса, занимая, наверное, чуть больше трети этого помещения перед окном полукругом стоял высокий книжный шкаф до отказа набитый разными литературными произведениями. Чуть ближе к центру, если б можно было разделить пополам это круглое помещение, но все еще с правой стороны, на тоненьких тросах висели картины, не много, около десяти; Либериус сделал несколько шагов в этом направлении и стал всматриваться; он увидел работы Леонардо да Винчи “Salvator Mundi”, “The Card Players” Поля Сезанна, “Nafea Faa Ipoipo?” Поля Гогена, “ Le Femmes d'Alger” Пабло Пикассо и еще несколько известных всем дорогих работ. Либериусу нравились всяческие придметы искусства и архитектуры, возле которых он проезжал раньше в своей повозке, часто останавливаясь, чтобы детально рассмотреть вблизи всякие для многих порой незаметные мелочи, заходил в музеи и картинные галереи, о многих из которых он читал в своей книге “Тысяча мировых картин”, взятой на время в больничной библиотеке. Были ли это подлинники, он сказать конечно же не мог, но мог предположить, что навряд ли такой человек как Гегемор размещал бы у себя в башне копии.
– Ну, что ты там стоишь в дверях, – послышался тяжелый, хриплый, больной голос. – я здесь, проходи уже. – голос доносился с левой стороны, пятьдесят минут, если по циферблату. По центру, между двенадцатью и тридцатью, разделяя комнату пополам, стоял прямоугольный, длинный, тяжелый стол и тринадцать стульев. Там, где виднелась, угасающая после их последней встречи, фигура Гегемора, чуть позади него, стоял рабочий стол с компьютером, на столе горел светильник, рядом находился небольшой диван с зеленой обивкой, на маленьком, круглом столике, стоящем слева от большого кресла, в котором вяло восседало худеющее, но все еще громоздкое с обвисшей кожей тело Гегемора одетое в черный шелковый халат с красным воротником, молчал старинный граммофон, а под ним, в деревянном ящике, виднелись виниловые пластинки. Позади стола с граммофоном, возвышались громоздкие, напольные часы, с массивными гирями. Гегемор, дружественно, на сколько ему это удалось поприветствовал Либериуса и, покрутив левой рукой, с заметным телесным усилием, ручку граммофона, предложил ему присесть. Гегемор дружественно, на сколько ему это удалось, поприветствовал Либериуса и, покрутив, с заметным телесным усилием, ручку граммофона, предложил ему присесть. Либериус отказался, обосновав свой отказ тем, что уже насиделся. Гегемор, оценив шутку, хотел было рассмеяться, но кроме клокочущего бронхиального кашля у него ничего не вышло. Тяжело вздыхая, он с сожалением помотал головой, и дрожащей рукой аккуратно, на сколько это было возможно, опустил иглу на пластинку. Либериус без особого интереса наблюдал за всеми его действиями, вспоминая былого, еще полного жизни, пусть и пьяного, джентльмена, которому он когда-то помог подняться на предпоследний этаж.
– Пологаю, что представляться мне нету смысла?.. – уверенно, на сколько это было возможно, проговорил Гегемор, пытаясь всем своим видом изобразить человека не нуждающегося ни в чьей помощи. Либериус ничего не ответил, прекрасно понимая, кто находится перед ним. Из тюльпанообразного, позолоченного рупора, сопровождаемая легким, вступительным потрескиванием, зазвучала невероятной красоты мелодия, которую, моментально уловил не идиальный слух Либериуса. Дыхание у него, как только послышались первые ноты: скрипок и виолончелей, гобоя и флейты, фагота и арфы, невольно замерло. Он вспомнил бабушку и эту мелодичную, убаюкивающую мелодию. Примерно через минуту космических переливов зазвучал мягкий и в то же время невероятно звонкий женский сопрано, исполняющий Chants d'Auvergne by Joseph Canteloube “BAILERO”. Либериус тут же взглянул на плотный конверт из-под пластинки, лежавший возле граммофона, где под фотографией симпатичного женского лица было написано ее имя – Netania Davrath, он вспомнил, как сам будучи еще совсем маленьким мальчиком, подходил к бабушкиному патефону и переставлял иглу на начало этой композиции, еще и еще… А бабушка, с присущей ей добротой, которая распространялась на все живое и даже мертвое, и умиротворенным старческим умилением, любила повторять: “Какая же она умничка – Сонечка наша, Лившиц.” Почувствовав слабость в ногах, Либериус огляделся. Он стоял в не свежей кем-то уже ношеной одежде, когда-то белой рубашке и выцветших черных брюках, перед умирающим по всем признакам, обмякшим в кресле и тяжело дышащим, испускающим пар, “Властелином Вселенной”.
– Я Вам зачем-то понадобился? – спросил Либериус. Гегемор приподнял усталые зрачки, вздохнул, протер платком взмокшее лицо и сказал:
– Хорошо, что ты пришел… Спасибо. – он признательно закивал. – Я умираю, как видишь, – с невероятным сожалением и сарказмом произнес он. С каждым сказанным словом силы его покидали, от этого говорил он тихо и медленно, делая тяжелые грудные вздохи и паузы, – а перед смертью мне захотелось поговорить еще с живым из не многих человечным человеком и это не лесть, не подумай… – Либериус смотрел на него с жалостью и внимательно слушал льющийся голос певицы, не придавая особого значения словам Гегемора, который это заметил, и все таки продолжал говорить, – говорить то, что его тревожило, то, что ему хотелось сказать, пока его отживающие умственные клетки могли еще хоть что-то воспроизвести, передать, выразить. – Долгого разговора у нас, к сожалению, не получиться, поэтому я не буду расспрашивать о тебе, мне и так все известно, а буду краток. Я хочу предложить тебе свое место. – образовалась долгая, выжидающая пауза. Выжидал Гегемор, ожидая хоть какой-то реакции со стороны Либериуса, который его прекрасно расслышал, но не выразил никакой эмоции, продолжая молчать и слушать “BAILERO”. – Вся башня, – прервал затяжную паузу Гегемор, понимая, что нужно, хоть поверхностно, но ввести Либериуса в курс дела, – с подвальных помещений и до предпоследнего этажа набита огромным штатом сотрудников: финансисты, эксперты, советчики, черт бы их побрал, во всех сферах, а также нейрофизиологи, психоаналитики, учёные и компьютерные гении разных масштабов и еще разная шушара, все здесь, – трудятся на благо, как говорится… – было заметно, как Гегемор напрягался.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе