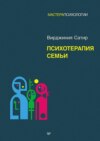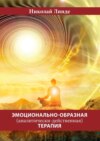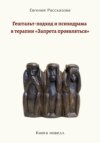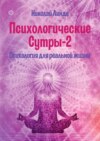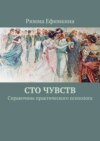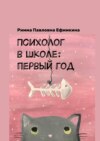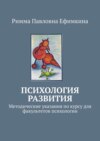Читать книгу: «Косяки начинающих психоконсультантов», страница 4
Рефрейминг
Для меня ярким примером для подражания в установлении контакта был и продолжает оставаться трансперсональный психотерапевт, доктор психологических наук Владимир Васильевич Козлов. Едва зная меня по заочной переписке, в которой я отправила тезисы статьи для научного сборника, он отреагировал на мой голос в телефонной трубке, когда я позвонила ему в первый раз: «Привет, дорогая! Конечно, помню!» Я чуть не прослезилась от реакции этого на тот момент не знакомого мне человека.
Чтобы понять мои чувства, нужно рассказать предысторию. За полгода до звонка я оформила соискательство степени кандидата наук и начала ездить в другой город для встреч с научным руководителем моей диссертации. Каждую нашу встречу после моего долгого ожидания в приемной сопровождал один и тот же диалог:
– Я Ефимкина Римма Павловна, соискатель.
– Кто ваш научный руководитель?
– Вы.
– Да-а-а?
Надо ли говорить, что в результате моим научным руководителем стал Владимир Васильевич?
Потом я увидела Владимира Васильевича, что называется, живьем. Это был для меня первый выездной тренинг в заповедник на Урале на озере Зюраткуль. Участники, не знакомые друг с другом, прибывшие из разных населенных пунктов нашей страны, ежились на утреннем ветерке под накрапывающим дождиком, из застенчивости не вступая в разговор. В моей голове билась единственная мысль: «И на кой я сюда приперлась?» Одна девушка предложила доесть жареного сома. Я до этого никогда не пробовала эту рыбу, но тоже застеснялась.
И тут из подъехавшего автомобиля вывалился невысокий и крепкий, как гриб-боровик, мужичок в белой холщовой рубахе и брюках и осветил своей улыбкой всю нашу унылую компанию: «Сом, говоришь? Это озерная свинья! Давай, а то когда еще обедать будем!» От озерной свиньи вмиг остались только кости, компания мгновенно накрыла импровизированный стол остатками дорожной провизии, перезнакомилась, и я уже ликовала, что начинается потрясающее приключение под предводительством вот этого жизнерадостного человека.
И это не единственные примеры его способа устанавливать контакт. Был случай, когда группа участников другого выездного тренинга, на этот раз в Горном Алтае, собралась на вокзале для отправления на автобусе, и тут заявляется опоздавший участник:
– Я только что вернулся из-за города, подождите меня, мне надо быстро смотаться домой, принять душ и взять рюкзак!
Я была уверена, что Владимир Васильевич отчитает его за такую наглость, и каково же было мое изумление, когда он с нескрываемым восхищением в голосе произнес:
– Конечно, подождем! Ка-ков парень!
Парень действительно оказался душой компании, распиливал и таскал огромные бревна для группового костра, готовил охотничьи чаи, травил анекдоты так, что все валялись, и сильно украсил собой как ту незабываемую поездку, так и многие другие в последующие годы. Правда, за великодушием профессора Козлова, согласившегося ждать опоздавшего участника вместе со всей группой в тридцать человек, стояла объективная необходимость: автобус не трогался, потому что часть участников еще не прибыла на поезде, тоже опаздывающем. Однако это ничего не меняет в манере контактировать: такой прием, который оказал Владимир Васильевич тому парню, дорогого стоит.
Люди, находящиеся в контакте с действительностью, излучают радость, хочется быть с ними в одном пространстве. На мой взгляд, они владеют рефреймингом (англ. frame – рамка) – термин из NLP для описания процедуры переосмысления, умения переводить информацию в позитив. Каждое явление нашей жизни имеет два полюса, положительный и отрицательный, и если вы способны сконцентрироваться на положительном полюсе, то вам значительно легче будет установить контакт.
Когда контакт утрачен
А если все-таки не установили? Во время моих с клиентами сессий не раз бывало, что контакт утрачен. Вы всегда увидите этот момент: человек подживает губы, перестает смотреть вам в глаза, откидывается на стуле, таким образом бессознательно увеличивая дистанцию. Я в таких случаях сообщаю об этих изменениях: «Я вижу, что вы изменили позу в ответ на мои слова: откинулись назад и как бы отдалились. Для меня это означает, что вы перестали мне доверять. Мне жаль. Я бы хотела знать, что вы услышали в моих словах такого, что на вас так подействовало. Могу ли я как-то изменить эту ситуацию?»
Это не всегда помогает. Были случаи, когда клиенты уходили с обидой или возмущением. Эти случаи описаны в моих психотерапевтических новеллах, например, «Агрессивная среда», «Метод не подходит» и многих других, а клиентам-динамистам, которые намеренно прерывают контакт с целью отреагировать свою ненависть, я посвятила целую главу. Не берите на себя лишнего, помните молитву гештальтиста: «И если нам случилось встретить друг друга – это прекрасно. А если нет – этому нельзя помочь».
2-й этап: заключение контракта
Переходим ко второму этапу сессии – заключению контракта. Это означает, что наши клиенты формулируют свой запрос, а мы должны подписаться под тем, на что мы согласны, а на что нет. Главная проблема здесь в том, что люди жалуются не на свои невротические стратегии, а на внешние обстоятельства, не зависящие от них, но надеются, что всесильный психолог разведет руками их беду. Но психолог не может ни вернуть ушедшего мужа, ни привлечь в жизнь клиентов денежный поток (хотя многие дают такую рекламу).
Что же мы можем? Можем с помощью вопросов дискредитировать систему верований клиента в то, что внешние обстоятельства являются причиной их несчастья. И когда из-под ног клиента уйдет дотоле надежная почва под названием «обстоятельства сложились так, что нет никакой возможности», мы на голубом глазу можем спросить его: «И что же ты теперь будешь делать?»
И вот тогда он начнет (или не начнет) искать ресурсы в себе. Муж ушел, и что ты теперь будешь делать? Денег нет, и что ты с этим будешь делать? Клиент начнет испытывать бурные чувства, а мы будем его учить канализировать их в трехчастном высказывании: 1) «Я злюсь… 2) …что муж ушел… 3) … потому что для меня это означает, что мне теперь самой придется обеспечивать свое существование… Ы-ы-ы!!!»
Таким образом, заключая контракт, мы подписываемся под тем, что будем способствовать изменению установок сознания и эмоционального состояния клиента. И не подписываемся под тем, что поменяем внешние обстоятельства его жизни.
Этот пункт не простой, а с подвохом. Дело в том, что заключить здоровый контракт можно со зрелой ответственной личностью, но такие редко ходят к психологам. А с незрелой безответственной личностью все содержание психотерапевтической сессии и будет попыткой заключить хоть какой-нибудь контракт. И следующая, и еще одна – и так до тех пор, пока незрелая безответственная личность не поймет, что за свою жизнь отвечает она сама, а не психолог.
Незрелая личность все время будет обвинять вас, что вы ей что-то недодали, не так поняли, исказили ее слова, придрались к деталям, надавили на нее и т. п. Периодически я в бессилии записываю диалоги с клиентами и называю эти записи психотерапевтическими миниатюрами. Вот одна из них, как раз на тему контракта.
Тютюшки-люлюшки
– Перерыв! Через десять минут продолжим работу.
– Я только на секундочку, коротенький вопросик… Ты сделала мою психодраму, но я так и не решила свою проблему, с которой пришла на группу…
– Какую?
– Узнать, почему я никак не могу познакомиться с мужчиной, заинтересовать его собой…
– И чего хочешь сейчас?
– Понять, что я опять делаю не так.
– Слушай, давай после перерыва, у меня чай остывает.
– Ты можешь просто сказать: почему мы не про мужчину-то работали, а про маму?
– Сделали, что смогли. Пока что у тебя нет ресурса решить эту проблему.
– Почему?
– Потому что ты ведешь себя, как маленький ребенок, а мужчин интересуют взрослые женщины. Тебе надо подрасти.
– В чем я маленький ребенок?!
– В том, что ждешь от окружающих, что они будут нянчиться с тобой.
– Ничего я не ребенок! Что же мне делать?!
– Повторяю: подрасти!
– Я и так взрослая, мне двадцать лет!
– Объясняю еще раз: сейчас перерыв, и все пьют чай. Я тоже собиралась, но ты остановила меня и продолжаешь юзать. Я уже провела твою психодраму и дала тебе все, что ты была способна взять на сегодняшний момент.
– А как же про мужчин?
– Ты меня слышишь? Сейчас перерыв, перестань хватать меня за подол и просить титю. После перерыва скажешь о своих чувствах!
– Нет у меня никаких чувств!!! Неужели трудно просто ответить на короткий вопрос?!!
– Алё, агу-агу! Титя улетела на самолете! Тютюшки-люлюшки, баюшки-баю!
3-й этап: сбор информации
Не знаю, откуда начинающие психоконсультанты «набираются этой пошлости», но под сбором информации они понимают множество лишних и ненужных сведений о клиенте, типа «Когда это началось?» или «Давно это у вас?» Друзья, нам, психологам, эти сведения никуда не уперлись. Учитесь у мудрого Микеланджело, который на вопрос: «Как вы создаете свои скульптуры?» – ответил: «Я беру глыбу и убираю все лишнее».
Вот и мы убираем лишнее из длинной речи клиента, потому что речь его льется не для того, чтобы дать нам информацию, а наоборот – надежно скрыть ее:
Терапевт (Т): Я вас внимательно слушаю.
Клиент (К): Даже не знаю, с чего начать… Я первый раз у психолога… Может, вы мне подскажете?
Т.: Чего бы вы хотели от нашей с вами работы за этот час?
К.: Я тут набросал небольшой список на листочке… Где же он… А-а, вот он! Ой, очки, кажется, забыл…
Т.: Можете сказать своими словами, что вас беспокоит?
К.: Ой, извините, что я отрываю у вас время…
Т.: Это ваше оплаченное время, у вас есть час. Потом зазвонит будильник, и ваша сессия закончится.
Как видите, время тикает, а мы не получили ровно ни грамма вербальной информации (невербальную, конечно же, получили, но сейчас не об этом). Что нам с вами нужно успеть за этот час? Добыть три ингредиента, из которых один известен (то есть остается всего два):
К -» Х
К – клиент.
Стрелка (-») – чувство.
Х – человек, к которому клиент испытывает это чувство.
Например: «Я тебя ненавижу», «Я тебя боюсь», «Я по тебе скучаю» и т. п.
Как только вы выманили из клиента эти ингредиенты, можете переходить в следующему этапу сессии – эксперименту.
Так просто? Ага, попробуйте из него достать это чувство и этого человека! Вместо чувства он будет называть мысли, телесные ощущения, оценки или отрицания, а вместо конкретного человека говорить «люди», «окружающие», «все», «да буквально каждый».
Давайте сделаем еще попытку:
К.: Окружающие меня не понимают…
Т.: Кто именно вас не понимает?
К.: Да буквально все!
Т.: Можете привести конкретный пример?
К.: Их так много, что я не могу выбрать.
Т.: Возьмите последний случай: кто, когда, в чем вас не понял? Вот хоть сегодня?
К.: Нет, лучше не сегодня, лучше расскажу вчерашний случай…
Т.: Хорошо, слушаю вас.
К.: Вчера возвращаюсь домой, а муж…
(Ура! Один из двух ингредиентов найден – муж! Осталось обнаружить чувство. Продолжаем диалог):
К.: …а муж мне говорит: «Чем весь день проводить на работе, лучше сидела бы дома, убиралась и готовила есть! Баба ты или кто?! Все равно у тебя не зарплата, а слезы!»
Т.: И что вы почувствовали в ответ на эти слова мужа?
К.: Ой, помалкивал бы, если б сам нормально зарабатывал, разве б я…
(Друзья, это не чувство, а оценка.)
Т.: И какое у вас в связи с этим чувство?
К.: Да какое тут может быть чувство? Козел он, да и только!
(Снова оценка, а не чувство).
Т.: Правильно ли я понимаю, что вы рассердились на эти слова мужа?
К.: Что вы, я никогда не сержусь! Я спокойно развернулась и ушла в свою комнату, теперь не разговариваем.
Не буду продолжать этот диалог, целью моей в данном случае является только одно: показать, что клиенты не обмениваются друг с другом чувствами. Если б так было, диалоги были бы короткие и по существу. Ей станет значительно легче, когда ей удастся сформулировать то, что заперто у нее в душе: «Я сержусь, когда ты говоришь мне, чтобы я не ходила на работу, потому что для меня это означает, что ты не понимаешь меня. А я бы хотела, чтобы ты понял: работа для меня не только деньги, а прежде всего развитие, самореализация, и они не сразу приносят доход, нужно время».
В течение часовой сессии мы будем предлагать ей проговорить эти (или другие, подобные слова) мужу (не настоящему, упаси Бог, мы поставим вместо него стул или какой-то символический предмет). А потом она обменяется с мужем ролями, встав на его место, и попробует ответить. Возможно, они и поймут друг друга, и тогда у нее будет опыт понимания, но достигнет она его САМА. То есть женщина возьмет ответственность за то, что если хочешь быть понятой, донеси это понятным способом.
Позже я вернусь к теме сбора информации, она подразумевает изощренный инструментарий. Но сейчас хочу, чтобы ухватили суть: не распыляйтесь, но фокусируйтесь: К -» Х!
4-й этап: эксперимент
Собственно, о нем я уже сказала только что. Если вы поняли, чего нужно клиенту от другого человека, то в безопасных условиях терапевтической сессии вы предлагаете клиенту донести эту нужду до другого человека. Потому что, согласно гештальт подходу, каждую из своих потребностей мы удовлетворяем в контакте со средой.
Клиенту нужно прочувствовать: хлеб за пузом не ходит! Если вам что-то нужно от людей, то это ваша (а не их!) ответственность выразить им в социально приемлемой форме вашу потребность.
Каким образом то, что получено клиентом во время сессии, переносится им в реальную жизнь? Изменится ли в жизни человека что-то после того, как он в кабинете психотерапевта поговорил с пустым стулом? Представьте, да! Студенты-психологи бесконечно задают мне вопрос: «А это поможет?» А я в ответ бесконечно пересказываю историю про Жучку.
Сессия «Жучка»
Эта история имеет под собой реальное событие, но сейчас она в результате многократных повторений уже стала психотерапевтической притчей, и я написала о ней рассказ с одноименным названием7. Я буду ее рассказывать именно как притчу.

В те времена, когда я сама была участницей образовательной группы по гештальт терапии, был среди нас один парень, назовем его N. И вот выходит он как-то в круг ставить свою сессию. И говорит: «У меня такая проблема: моя собака меня не слушается. Что хочет, то и делает, может даже лечь на мою постель. Я ей говорю: „Жучка, а ну слезай!“ – а она лежит и ухом не ведет! Жену слушается, а меня – нет».
Психотерапевт ему: «И чего ты хочешь?»
N: «Хочу, чтобы она слушалась меня, все-таки я ее хозяин!»
Тогда психотерапевт ему и говорит: «Слышишь ты свой голос? У тебя оправдывающиеся интонации. Предлагаю тебе поставить стул, представить на нем свою собаку и поговорить с ней так, чтобы она тебя послушалась».
N так и сделал. Сначала он плаксивым голосом просил Жучку уйти с его кровати, а потом разозлился и так саданул по стулу кулаком, что воображаемая Жучка сразу все поняла.
На другой день мы собрались на продолжение тренинга и ждем, когда придет N. Вот он заходит в группу, и все мы к нему с одним вопросом: «Ну и что с Жучкой? Послушалась она тебя?»
На что N недоуменно ответил: «Да сам не знаю… Как только я вернулся домой после вчерашней группы, Жучка мигом залезла под ванну и больше из-под нее не вылезала».
Вот такая история.
А теперь три правила.
Правила безопасности во время эксперимента
1. Никогда не предлагайте клиентам сказать в жизни реальным родственникам то, что они говорят на сессии стульям. То, что способны выдержать стулья, не способны выдержать родственники. Я не устаю повторять студентам еще и еще раз: не трогайте реальных родственников, пусть живут! Хотите что-то менять – меняйте в себе, а не в них!
2. Изменения, произошедшие с вами во время сессии, уже состоялись и стали частью вашего сознания. Другим людям (а в вышеприведенной сессии – собаке) они сразу видны, так что отношения теперь станут другими по умолчанию.
3. Не задавайте вопрос: «А точно помогло?» Этим вы обесцениваете результаты работы, что препятствует интеграции.
5-й этап: подведение итогов
Со временем вы сами без слов будете понимать, воспользуется клиент итогом сессии или нет. Например, после сессии в арт-подходе вы спрашиваете его:
– Что вы сделаете со своим рисунком?
– Можете оставить его себе!
По-моему, тут нечего добавить, и без того все ясно. Человек, взявший у терапевта для себя что-то важное, ответит по-другому: «Я заберу его с собой, пусть побудет, я еще раз посмотрю на него, в нем так много важной информации». Некоторые намерены повесить на стену в рамку, другие собираются перерисовать рисунок дома.
Итоги можно подводить по-разному. В психодраме есть процедура закольцовывания сессии, когда директор предлагает протагонисту в конце поставить первоначальную сцену. Если состояние протагониста поменялось, он сыграет ее по-другому, более зрело, живо, цельно. В NLP есть процедура экологической проверки. В гештальт подходе, заканчивая сессию, принято в конце спрашивать: «Что для вас стало сухим остатком?» Или: «С чем уходите?», «Каков будет ваш первый шаг в осуществлении намерения?»
Это не наше с вами дело, что клиент будет делать со своими результатами. Он свободен, это его жизнь. Наша же задача – провести сессию на пределе своих возможностей. И если наш труд оказался невостребованным, философски говорим себе: делай, что можешь – и будет как будет.
Глава 6. Откуда приходят ответы
Перфоманс
Итак, скелет сессии мы рассмотрели, но не это в сессии самое интересное, а творческий компонент. Это новичкам нужно до автоматизма отрабатывать структуру, а профессионалы высокого класса чихать на нее хотели, они наоборот ищут, как бы обойтись со стандартной схемой неординарно! Если бы наши педагоги проводили сессии стандартно: «Здравствуйте, присаживайтесь, с чем пришли?» – я бы не высидела в группе три года. Но мастера не повторяются! И я продолжала выслеживать, что же такого делает Нифонт, чтобы сессия с самым занудным клиентом превратилась в захватывающий перфоманс.
И таки выследила. Так, в психодраме, например, он внимательно слушает речь клиента, а потом предлагает поставить сцену, исходя из буквального, а не метафорического значения слов. Например, клиентка говорит: «Я у него в ногах валялась, чтобы он остался!» – «Выбери себе кого-нибудь на роль мужа и покажи, как ты валялась у него в ногах». И вот уже вся группа покатывается со смеху, наблюдая, как муж пытается выйти за дверь, а жена, ухватив его за ноги, волочится по полу.
Или: «Этот хондроз меня уже забодал!» – «Сделай сцену и изобрази, как он это сделал». С открытыми ртами все наблюдают поединок, в котором участник в роли хондроза, наклонив по-бараньи голову, пытается забодать протагониста. Такого не только в жизни, но и в театре не увидишь! А если повезет и тебя выберут на одну из ролей, то еще и сыграешь.
Кого я только не сыграла за три года обучения! И не только «кого», но и «что». Я была рюмкой, бюстгальтером, левой ногой, волком. Кстати, в роли волка заснула (уж больно затянутая была драма), а проснувшись, не знала, какой у меня текст, и просто протяжно завыла. Как это обычно бывает в психодраме, мое спонтанное действие оказалось для протагониста как раз тем, что нужно.
Как-то, помню, на драму пришла «реальная» клиентка и, увидев, что в группе больше двух десятков участников, огорчилась:
– Я-то собиралась работать с психосоматикой, а тут вон сколько народу, мне неловко…
– А с какой психосоматикой вы собирались работать?
– Простите, с поносом. Кто же согласится играть понос…
– Я!!! – хором ответили двадцать три участника.
Чем абсурднее сцена с точки зрения обыденной реальности, тем ярче психодрама. Это дает возможность клиенту увидеть свою тему в новом ракурсе, что вызывает сильные чувства, а нам того и надо! Чувства – энергия, которая позволяет людям быть живыми, настоящими. Нифонт делал потрясающие сессии, я перестала ходить в театр – он померк в сравнении с настоящими драмами в жизни людей.
Получилось!
И вот однажды у меня тоже получилось. «Реальная» клиентка, приглашенная на нашу учебную группу, чтобы сделать свою сессию, говорила о том, что ей приходится все проблемы своих родственников тащить на себе. И вдруг я представила, что если она для обозначения этих чужих проблем воспользуется стульями, а потом повесит их на себя все одновременно, то ей удастся невещественные явления сделать явными и ОЧЕВИДНЫМИ (видными очами). Я рискнула поделиться своей идеей, и сработало: увешанная стульями, женщина перестала думать и начала чувствовать! Когда она сказала: «Я устала, я злюсь, я хочу сбросить с себя все эти не мои вещи», – я ликовала. Вот теперь у меня есть ключ. С этого момента я начала мысленно видеть образ за словом и представлять, как это можно сыграть.
Похожее озарение произошло на занятиях в телесно-ориентированном подходе, которые проводила Татьяна Юрьевна Калошина. В один миг эта женщина растолковала, как работать с психосоматикой, и если ты раз это понял, то уже не разучишься. Это как с чтением в дошкольном детстве, когда за рядом не связанных друг с другом букв ты вдруг впервые видишь слово.
На одном из занятий Татьяна Юрьевна предложила упражнение в парах: один просто стоит прямо, закрыв глаза, а второй рисует его, как может, спереди, сзади и с боков. Наблюдателю нужно заметить какое-то движение в теле, любой еле различимый импульс: покачивание вперед-назад или из стороны в сторону, асимметрию – наклон корпуса или головы и т. д. И потом следует усилить этот импульс и «прочитать», про что он в жизни человека. Помню, как со мной в паре оказался мужчина, прошедший когда-то боевые действия. Он стоял как вкопанный, но его тело едва-едва колебалось вокруг вертикальной оси, будто он был на крутящейся подставке. Я видела это, но не могла сообразить, про что бы это могло быть. Я была не одна такая, все новички стояли и хлопали глазами со своими блокнотами в руках. Татьяна Юрьевна подбодрила нас:
– Доверяйте своей интуиции. Встаньте в позу клиента, влезьте в его шкуру с помощью вашего воображения. А теперь сами воспроизведите и усильте это еле заметное движение, продлите импульс, поймите, про что он. Что первое придет в голову – то и есть правильный ответ!
Спасибо ей за это разрешение! Когда ищешь, на кого бы в своей работе опереться, тебе не приходит в голову, что это ты и есть. Я вросла ногами в землю, как мой партнер по упражнению, начала чуть-чуть вращаться вокруг вертикальной оси, усилила вращение и через минуту обнаружила, что мое тело делает не что иное, как очерчивает вокруг себя раскинутыми руками круг – личное пространство, куда посторонним вход запрещен.
Мое внутреннее зрение заработало в нужном направлении, получив новый инструмент. Теперь я могла за мгновенья считывать непроизвольные телесные импульсы клиентов. Позже в книгах Арнольда Минделла я прочла о его процессуальном подходе, базирующемся на наблюдательности терапевта, который считывает сигналы «сновидящего тела»8. Что ж, многие говорят, что Минделл переоткрыл гештальт подход.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе