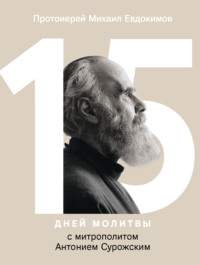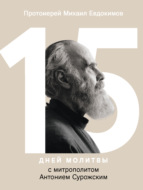Читать книгу: «15 дней молитвы с митрополитом Антонием Сурожским», страница 3
2 день
Может ли верить современный человек?

«Да, современный человек – человек верующий». Он верит в самые необычайные вещи, в нашем западном мире он принимает на веру что угодно, только не традиционные верования своей страны. Легковерия сегодня несравнимо больше, чем лет пятьдесят назад [это текст 1978 г.] – я не беру дальше… (9, с. 6).
Человек нашего времени, не без усмешки продолжает митрополит Антоний, готов проглотить что угодно, лишь бы это было что-нибудь новенькое: астрологию, гадание на картах, разные модные поветрия, политкорректность… Человеческое «я» устремлено на внешнее, захвачено потоками образов, информации, которые обрушиваются на него из телевизора, компьютера, мобильного телефона и от которых не останется и следа. Технократическая цивилизация, опирающаяся на финансы, устанавливает свою гегемонию над умами людей. Новые, эфемерные идолы возникают среди кинозвезд, в мире спорта или политики. Под якобы чистой и стабильной рациональностью прячется столько предрассудков, насилия, экзистенциальных проблем, чувства вины или скрытого реванша иррациональных сил, и это хорошо известно психиатрам, работающим с этой оборотной стороной рациональности.
Те, кто бросаются в такие верования, ни за что не поверят христианству. Верить по-христиански становится невозможно. Образованный, здравомыслящий человек, открытый всем мировым ветрам, не может быть христианином. Конечно, частично ответственно за это и само христианство. Для митрополита Антония его язык закоснел, потерял жизненную силу и ясность, стал недоступен непосвященным. Так, согласно опросу, проводившемуся в современной Франции, около сорока процентов христиан больше не верят в воскресение. Большинство из них воспринимает Христа как простого человека и, чтобы сделать весть о воплощении более доступной, ее преподносят как миф и символ.
Современный человек страдает какой-то фундаментальной слепотой. Если бы он только осознал, до какой степени ослеп, то молил бы об исцелении изо всех сил. Видимый мир говорит сам за себя, он наша естественная среда. Невидимый же мир приходится искать, он не так-то легко дается. Христос – путь, нам надлежит ринуться вперед по этому пути, как бросаются в атаку:
Мы ослеплены миром вещей и забываем, что он мелок, лишен той глубины, какой наделен человек (5, с. 29).
Невидимое открывает новые горизонты. За пределами миллиардов звезд или бесконечно малых частиц атома открывается другой мир, невидимый невооруженному глазу, который можно постичь лишь внутренним зрением. Стало модно утверждать, что вера – это поражение разума, что она утверждает себя тогда, когда человеку не хватает рациональных аргументов перед лицом трагедии или абсурдности мира. Но такая точка зрения чужда опыту христиан, для которых вера – это уверенность в невидимом (Евр. 11: 1). Вера не ограничивается словами, дефинициями, традициями, даже самыми уважаемыми, но только через веру мы можем утвердиться в уверенности, что невидимое реально (5, с. 32). Невидимое стяжает большую реальность, большую глубину, чем видимый мир. «По-настоящему можно видеть только сердцем, главное невидимо для глаз», – говорит Лис Маленькому принцу. В полноте такой пример дает апостол Павел, когда говорит: …уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2: 20). Он достигает тем самым полноты в Боге, это тот опыт, который пережил и владыка Антоний (Блум), поставивший Христа в центр своей жизни.
Человек может ощущать себя ничтожной и хрупкой пылинкой, «небытием, в сравнении с бесконечностью, или всем сущим, в сравнении с небытием», по Паскалю, постоянно расширяющейся безмерностью:
Но стоит нам обратиться внутрь себя – и мы обнаруживаем, что всей этой необъятности не достанет, чтобы заполнить нас до краев. Весь тварный мир, словно песчинка, исчезает в глубинах нашего существа: мы слишком необъятны, чтобы он мог заполнить, преисполнить нас. Это может сделать только Бог, Который сотворил нас для Себя, в Свою меру. По словам Ангелиуса Силезиуса, «я столь же велик, как Бог; Бог так же мал, как я» (5, с. 29–30).
В человеческом сердце открывается глубина, укорененная в безбрежности Бога.
Церковь сегодня, по митрополиту Антонию, больше не занимается обучением, воспитанием, вдалбливанием дисциплины жизни, аскезы сердца и ума. Невозможно быть христианином задешево, говорит он, потому что быть христианином – это образ жизни. В эпоху Ветхого Завета можно было поступать в обход Закона, Христос беспощадно обличал лицемерие книжников и фарисеев. Но при Новозаветном Законе такой обходной маневр уже невозможен, потому что теперь в основе лежит любовь, а с любовью жульничество невозможно. Данте выразил эту чистую прозрачность человеческой любви такими словами:
Взор Беатриче не сходил с высот,
Мой взор – с нее. Скорей, чем с самострела
Вонзится, мчится и сорвется дрот,
Я долетел до чудного предела,
Привлекшего глаза и разум мой…
Чтобы поверить, важно оказаться в окружении таких свидетелей, как владыка Антоний (Блум), пересекавших невидимые миры. Воля и дисциплина особенно важны в начале пути. Слово «дисциплина» происходит от латинского discipulus (ученик), тот, кто нашел себе учителя и готов учиться у него любой ценой. Да, цена может оказаться высокой, как показывает пример Дитриха Бонхёффера, решившегося следовать за Учителем и воплотить Его идеи в жизнь до конца, вплоть до добровольной смерти за Него.
Еще современному человеку трудно верить из-за утверждения, что, на первый взгляд, за столько веков христианство мало что изменило в мире. Фейербах считал, что люди, раздавленные несчастьем жизни, создали себе проекцию человеческого духа, поместив ее в некие иллюзорные условия счастливой жизни. Мы знаем, как провалился этот утопический проект низвести на землю рай, эти «зияющие высоты», о которых в Советском Союзе писал Зиновьев. Владыку Антония возмущает сама мысль о том, что христианство ничего не изменило в мире.
Это грубая ошибка, потому что христианство изменило мир коренным образом: До Христа не было понятия того, что человеческая личность имеет абсолютную ценность (9, с. 12). Народы Древней Греции и Рима состояли как из свободных людей, так и из анонимной толпы, лишенной каких бы то ни было прав. Понятие, что самый ничтожный человек имеет такую же ценность, как самый высший в глазах людей, пришло с учением Христа, с провозглашением того, что именно так Бог относится к каждому из нас, ко всем людям (9, с. 12). Точно так же апостолы, которых было вначале всего двенадцать человек, перевернули весь мир, провозгласив веру в человека, и веру в Бога, и новую жизнь, за которую многие из них заплатили ценой собственной жизни.
Наш автор призывает нас вернуться к вере как душевному труду в этом мире, утратившем иллюзии и разъедаемом безжизненным скептицизмом, но продолжающем при этом оставаться также миром солидарности и любви. Евангелие может стать источником обновления для обретения подлинных ценностей, на которых строятся гуманистические и христианские принципы Европы и всего мира. В нашу эпоху Бога нередко упрекают за то, что Он молчит. Но Он не может навязать нам Свое всемогущество, потому что, как говорит святоотеческое высказывание, Бог может все, кроме одного: Он не может заставить человека любить.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе