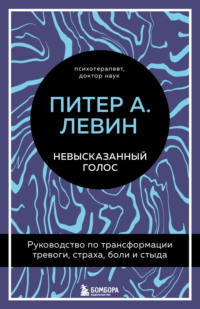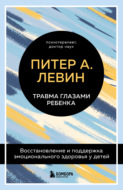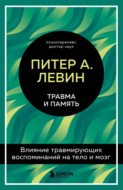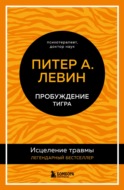Читать книгу: «Невысказанный голос. Руководство по трансформации тревоги, страха, боли и стыда», страница 6
Паралич страха
В Серенгети испуганная реакция одного члена стада заставляет других газелей ожидать худшего и бдительно осматривать окружающую среду в попытке обнаружить потенциальный источник угрозы. Однако если не получается выявить крадущегося хищника, они тут же теряют бдительность и продолжают мирно пастись22. Мгновением позже другая газель замирает на звук хрустящей ветки, и стадо снова начеку, – активируется «коллективная нервная система» животных, настраивающая их на полномасштабные действия. Они застывают в унисон, мышцы напрягаются, готовясь к максимальному напряжению при бегстве.
Улучив момент, крадущийся гепард выскакивает из укрытия в густом кустарнике. Стадо, как единый организм, бросается прочь от приближающегося хищника. Одна молодая газель на долю секунды замешкалась, но затем продолжила бег. Гепард бросается к намеченной жертве. Погоня продолжается со скоростью более ста километров в час! В момент контакта (или непосредственно перед этим, когда она чувствует, что конец близок) молодая газель падает на землю. Неподвижное как камень животное вошло в измененное состояние сознания, присущее всем млекопитающим, когда смерть кажется неизбежной. Оно не «притворяется» мертвым, хотя на самом деле может быть даже невредимым. Оно находится в состоянии паралича страха.
Паралич, анцестральные корни
Мы умираем, чтобы жить.
Папа-опоссум своим детям в мультфильме «Лесная братва»
Первой линией защиты человека от хищника, нападающего человека или другого источника опасности, как правило, является активная оборона. Вы уклоняетесь, уворачиваетесь и убегаете; вы скручиваете тело и поднимаете руки, чтобы защититься от смертельного удара. Хорошо известно, что вы убегаете от потенциальных хищников и злодеев или сражаетесь с ними, когда чувствуете, что сильнее противника или если они заманили вас в ловушку. В дополнение к хорошо известным реакциям «бей или беги» существует третья, менее известная реакция на угрозу: неподвижность. Этологи называют этот «паралич по умолчанию» тонической неподвижностью (ТН). Это одна из трех основных инстинктивных реакций, доступных рептилиям и млекопитающим, когда они сталкиваются с угрозой со стороны хищников. Она срабатывает в случаях, когда активные ответные меры вряд ли эффективны, чтобы избежать угрозы или устранить ее источник (например, путем борьбы). Две другие реакции, «бей или беги», известны нам в основном благодаря всеобъемлющему труду Уолтера Б. Кэннона 1920 года, посвященному симпатоадреналовой нервной системе. Однако гораздо менее оценены глубокие последствия реакции неподвижности человека при формировании и лечении травмы. Принимая во внимание более чем 75-летние этологические и физиологические исследования, проведенные со времени открытия Кэннона, реакцию «бей или беги» можно было бы дополнить аббревиатурой из одной «А» и четырех «F»: А (Arrest) – Замирание (повышенная бдительность, сканирование пространства), F (Flight) – Бегство (вначале попытка убежать), F (Fight) – Борьба (если животному или человеку не дают убежать), F (Freeze) – Оцепенение (испуг – оцепенение от страха) и F (Fold) – Сворачивание в клубок (беспомощность). В двух предложениях: травма возникает, когда мы сильно напуганы и нас либо физически сдерживают, либо мы чувствуем, что попали в ловушку. Мы застываем, парализованные страхом, и/или падаем в обморок от ошеломляющей беспомощности. Примечание: хотя некоторые современные авторы склонны называть первичную реакцию замирания «оцепенением», я, во избежание возможной путаницы, использую термин «оцепенение» только для описания поведения, включающего тоническую неподвижность23.
При оцепенении мышцы напрягаются, защищаясь от смертельного удара, и вы чувствуете себя «окоченевшим от страха». С другой стороны, когда воспринимаете смерть как однозначно неизбежную (например, оскаленные клыки готовы уничтожить вас), мышцы отказывают, словно потеряли всю энергию. При подобной реакции «по умолчанию» (когда она становится хронической, как это бывает при травме) вы чувствуете, что находитесь в состоянии беспомощного смирения и вам не хватает энергии, чтобы поддерживать жизнь и двигаться вперед. Это чувство краха, поражения и потеря воли к жизни лежат в основе глубокой травмы.
«Окоченеть от страха», «быть парализованным страхом» – или, альтернативно, падать в обморок и впадать в оцепенение – точно описывает физическое, висцеральное, телесное переживание сильного страха и травмы. Поскольку тело задействует все эти варианты выживания, психотерапевт должен обратиться именно к тому, что рассказывает тело, чтобы понять реакции и мобилизовать их для преобразования травмы.
Психотерапевтам (и их клиентам) может помочь знание, что неподвижность, по-видимому, выполняет по крайней мере четыре важные функции выживания у млекопитающих. Во-первых, это стратегия выживания на крайний случай, в просторечии известная как «игра в опоссума, или притвориться мертвым». Однако это не притворство, а весьма серьезная врожденная биологическая тактика. Для медлительного маленького животного вроде опоссума бегство или драка вряд ли будут успешными. Пассивное сопротивление, в великой традиции Ганди, то есть инертность животного, как правило, подавляет агрессию хищника и уменьшает стремление убить и съесть жертву. Кроме того, неподвижное животное часто бросают (особенно когда оно издает гнилостный запах, сходный с запахом гниющего мяса) такие хищники, как койот, – если, конечно, животное не очень голодно24. При подобной «симуляции смерти» опоссум может выжить и сбежать, благополучно дожив до следующего дня. Точно так же гепард может оттащить неподвижную добычу в безопасное место, подальше от потенциальных конкурентов, и вернуться в логово за детенышами (чтобы разделить с ними добычу). Пока его нет, газель может очнуться от паралича и сбежать. Во-вторых, неподвижность обеспечивает определенную степень невидимости: инертное тело с гораздо меньшей вероятностью будет замечено хищником. В-третьих, неподвижность может способствовать выживанию группы: когда на них охотится стая хищников, гибель одной особи может отвлечь стаю достаточно надолго, чтобы остальная часть стада смогла спастись бегством.
Последняя, но от этого не менее важная четвертая биологическая функция неподвижности заключается в том, что она вызывает глубоко измененное состояние оцепенения. Сильная боль и ужас притупляются: таким образом, если животное все-таки выживет после нападения, оно, даже раненое, будет меньше страдать от изнуряющей боли и сможет убежать при первой возможности. Этот «гуманный» обезболивающий эффект опосредован выбросом эндорфинов, собственной морфиноподобной системы обезболивания организма. Для газели это означает, что не придется в полной мере испытывать агонию и боль, когда ее будут разрывать на части острые зубы и когти гепарда. То же во многом верно и для жертвы изнасилования или несчастного случая. Жертва может наблюдать событие как бы извне своего тела, как если бы это происходило с кем-то другим (это я и наблюдал во время несчастного случая). Дистанцирование, называемое диссоциацией, помогает сделать невыносимое терпимым.
Исследователь Африки Дэвид Ливингстон весьма наглядно описал подобный опыт во время встречи со львом на равнинах Африки:
Я услышал крик. Вздрогнув и полуобернувшись, я успел увидеть льва – как раз в тот момент, когда он прыгал на меня. Я стоял на небольшой возвышенности; в прыжке хищник схватил меня за плечо, и мы вместе упали на землю. Страшно рыча мне в ухо, он встряхнул меня, как терьер крысу. Шок вызвал ступор, подобный тому, который, думаю, испытывает мышь, когда ее начинает трясти кошка. На меня навалилась своего рода сонливость, в которой не было ни чувства боли, ни ужаса, хотя я вполне осознавал происходящее. Это походило на то, что описывают пациенты, частично находящиеся под воздействием хлороформа, которые видят всю операцию, но не чувствуют скальпеля. Это необычное состояние не было результатом какого-либо ментального процесса. Потрясение уничтожило страх и не позволило чувствовать ужас при взгляде на зверя. Подобное своеобразное состояние, вероятно, возникает у всех животных, которых убивает плотоядный хищник; и если так, это без сомнения можно назвать провидением великодушного Создателя, который милостиво уменьшает для нас боль смерти». (Курсив мой. – П. Л.)
Хотя Ливингстон приписывает этот дар «великодушному Создателю», не обязательно ссылаться на «высший разум», чтобы оценить биологически адаптивную функцию уменьшения серьезной боли, ужаса и паники. Если человек способен оставаться присутствующим и воспринимать происходящее в замедленном темпе, у него больше шансов воспользоваться потенциальной возможностью побега или придумать хитроумную стратегию, чтобы ускользнуть. Например, друг рассказал мне о случае, когда снимал деньги в банкомате для международной поездки. Как только он отвернулся от банкомата, группа головорезов схватила его и приставила нож к горлу. Словно во сне, он безмятежно сказал, что это их счастливый день, и он только что снял много денег для поездки, которую собирался совершить. Изумленные грабители спокойно забрали деньги и скрылись в темноте. Я уверен, некоторая степень диссоциации позволила ему не чувствовать себя настолько напуганным, чтобы это лишило его возможности стратегически справиться с угрожающей ситуацией.
В самом деле, адаптивная и благотворная ценность диссоциации иллюстрируется другой захватывающей историей, на этот раз от авантюриста Редсайда из джунглей Индии:
Переходя быстрый ручей, [он] споткнулся и уронил патронташ в воду… Теперь, оказавшись без патронов, он вдруг заметил, что за ним крадется большая тигрица. Побледнев и вспотев от страха, он начал отступать… Но было поздно. Тигрица бросилась на него, схватила за плечо и протащила четверть мили туда, где играли трое ее детенышей. Как Редсайд вспоминал позже, он был поражен, что страх исчез, как только тигрица поймала его, и он почти не замечал боли, пока хищница примерно с час тащила его и периодически терзала, играя с ним в «кошки-мышки». Он живо помнил солнечный свет, деревья и выражение глаз тигрицы, а также напряженные «умственные усилия» и чувство неопределенности всякий раз, когда удавалось уползти, однако каждый раз его ловили и тащили обратно, в то время как детеныши смотрели на это и игриво пытались подражать маме. Он сказал, что, несмотря на полное осознание крайней опасности, разум каким-то образом оставался «сравнительно спокойным», «не затронутым страхом». Он даже сказал спасителям, которые как раз вовремя застрелили тигрицу, что считает это испытание менее ужасным, чем «полчаса в кресле дантиста».
Хотя Ливингстон и Редсайд на удивление почти не пострадали от неприятных столкновений с хищными кошками, у Ливингстона тем не менее развилась воспалительная реакция в плече, которая до конца жизни неизменно проявлялась в годовщину нападения. К сожалению, для многих травмированных людей диссоциативные реакции или «телесные воспоминания» нельзя назвать незначительными и преходящими. Они приводят к широкому спектру стойких, так называемых психосоматических (физических) симптомов (которые более точно можно назвать «соматической диссоциацией»), а также к неспособности сосредоточиться, сориентироваться и функционировать в настоящем времени – здесь и сейчас. Хотя травмированные люди не остаются физически парализованными, они погружаются в некий тревожный туман, в хроническое частичное отключение, диссоциацию, затяжную депрессию и оцепенение. Многие способны зарабатывать на жизнь и/или создавать семью в условиях своего рода «функциональной заморозки», серьезно ограничивающей их удовольствие от жизни. Они несут бремя, несмотря на мучительные симптомы, теряя энергию в тяжелой борьбе за выживание. Кроме того, мы, люди, любящие привязываться к символам и образам, можем продолжать видеть себя (мысленным взором) на пороге смерти еще долго после того, как реальная опасность миновала. Видение грабителя или насильника, приставляющего нож к нашему горлу, может бесконечно повторяться, будто это все еще происходит с нами.
Как биология становится патологией
Хотя состояния неподвижности и диссоциации (подобные только что описанным Ливингстоном и Редсайдом) драматичны, они не обязательно приводят к травме.
У Ливингстона не возникло никаких страхов, негативно влияющих на него, появилась лишь местная, локализованная реакция, ежегодно проявляющая себя на пораженном плече приблизительно в дату нападения тигра. Что касается моей аварии, я заметил, что стал еще осторожнее при переходе улиц – особенно в Бразилии, где часто преподаю и где движущиеся транспортные средства могут представлять значительную проблему для пешеходов. В остальном я не испытываю страха или тревожной реакции в отношении дорожного движения. Возможно, мой друг, которого ограбили, теперь тоже осторожнее подходит к банкомату вечерами. Но ни он, ни Ливингстон, ни Редсайд, ни я не пострадали; хотя, несомненно, пережили ступор, ужас, неподвижность и диссоциацию. Что касается меня, я чувствую (и мои друзья подтверждают), что моя жизнестойкость повысилась и я действительно стал внутренне сильнее, успешно справившись с несчастным случаем и его последствиями. Друзья заметили, что теперь я кажусь более приземленным, сосредоточенным и ироничным.
Это подводит меня к центральному вопросу: что определяет, окажет ли внезапно произошедшее (потенциально) травмирующее событие долгосрочный деструктивный эффект, как при посттравматическом стрессовом расстройстве? И как понимание динамики реакции неподвижности помогает моделировать клинические решения этого важнейшего вопроса?
Позвольте повторить. В дикой природе животное, как правило, если его не убили, восстанавливается после неподвижности и благополучно доживает до следующего дня. Животному от этого не становится хуже, разве что делает его мудрее. Так, например, олень будет избегать определенного выступа скалы, где на него напал горный лев. Хотя моя гипотеза основана на полевых наблюдениях и не доказана эмпирически, интервью с людьми, занятыми охраной дикой природы по всему миру, подтвердили ее. Кроме того, трудно представить, как отдельные дикие животные (или весь их вид, если уж на то пошло) вообще выжили бы, если бы у них регулярно развивались те изнурительные симптомы, которые наблюдаются у многих людей25. Однако этот естественный «иммунитет» явно не относится к нам, современным людям… Но почему? И что с этим сделать?
Длительная неподвижность
Когда я заканчивал докторскую диссертацию в Беркли в 1977 году, я продолжал ежедневные походы к пыльным стеллажам аспирантской библиотеки, где наткнулся на важнейший ключ к моему пониманию травмы. Это статья Гордона Гэллапа и Джека Д. Мейзера, посвященная главному вопросу: как обычно ограниченная по времени реакция неподвижности превращается в долговременную и в конечном счете в бесконечную. За эту работу я бы лично номинировал их на Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1973 года, задним числом, – вместе с тремя ранее упомянутыми этологами.
В хорошо продуманном и тщательно контролируемом эксперименте авторы продемонстрировали: если животное одновременно напугано и удерживается, период времени, в течение которого оно остается обездвиженным после снятия удерживающего устройства, резко увеличивается. Существует почти идеальная линейная корреляция между уровнем страха, испытываемым животным, когда его сдерживают, и продолжительностью состояния неподвижности. Если животное не испытывает страха перед тем, как его стали удерживать, неподвижность обычно длится от нескольких секунд до примерно минуты. Данная способность называется «самопроизвольной терминацией». В противоположность этому, при многократном испуге и удерживании подопытное животное может оставаться обездвиженным целых семнадцать часов!
Клинический опыт определяет мое убеждение, что мощное потенцирование имеет глубокие клинические последствия для понимания и лечения человеческой травмы. Я расскажу, как «потенцирование», или усиление, неподвижности страхом может привести к возникновению самовоспроизводящейся петли обратной связи, вызывающей, по сути, постоянный квазипаралич у травмированного человека. Полагаю, что это состояние лежит в основе нескольких наиболее изнурительных симптомов травмы, особенно одеревенелости, замкнутости, диссоциации, чувства загнанности в ловушку и беспомощности.
Несколько лет назад в Бразилии у меня была возможность наблюдать в лабораторных условиях взаимодействие между страхом и неподвижностью и, таким образом, получить прямое подтверждение положений эпохальной работы Гэллапа и Мейзера о тонической неподвижности. Хотя в этой важной области мало исследователей, я нашел одного, активно проводящего экспериментальные исследования тонической неподвижности на животных в лаборатории Леды Менескал де Оливейра при медицинском факультете Федерального университета в Рибейрау-Прету, Бразилия. Ее, прежде всего, интересовали проводящие пути в мозге, активируемые при тонической неподвижности.
Леда и ее группа были чрезвычайно щедры, делясь со мной временем и опытом. Во время визита я смог непосредственно наблюдать и участвовать в применении экспериментальной методологии более ранних исследователей, чьи письменные работы вдохновили меня в 1970-х годах. Во время экспериментов, проводившихся в тускло освещенной комнате, морскую свинку осторожно брали, надежно удерживали, переворачивали лапками вверх, а затем помещали на спину в деревянное корыто V-образной формы. Если это делается без насилия и борьбы, подопытное животное лежит неподвижно от нескольких секунд до минуты или двух, затем переворачивается и спокойно уходит, самостоятельно выходя из состояния неподвижности. Лабораторным морским свинкам может быть присущ некоторый страх перед людьми (возможная спутывающая переменная). Тем не менее они все же относительно быстро выходили из состояния неподвижности, при этом последствия не были очевидны, таким образом, предположительно отсутствовали или были очень слабыми.
Яркую иллюстрацию самопроизвольной терминации дает искусство. В пьесе «Пикассо в Лапин Аджайл»26 юный Пабло снимает жакет с хорошенькой молодой женщины, которую привел в свою парижскую мансарду. В качестве уловки соблазнения он протягивает руку к окну, где на карнизе сидит белый голубь. Медленно, но без колебаний он крепко берет птицу в руки. Когда переворачивает ее, птица перестает двигаться. Затем бросает на улицу, с высоты третьего этажа. Молодая женщина ахает, рефлекторно поднося руку ко рту. В последний момент голубь выпрямляется и улетает, целый и невредимый, в ночные огни Монмартра. Затем Пикассо поворачивается к человеческой жертве своего сладострастия и заключает ее неподвижное тело в любострастные объятия.
Это поучительный взгляд на то, как животные преодолевают неподвижность и как половой акт, совершаемый по обоюдному согласию, и оргазмическая разрядка, даже при отсутствии страха, предполагают некоторую неподвижность. При отсутствии страха она благотворна и даже приятна, как в примере с кошкой-матерью, уверенно несущей во рту обмякшего котенка.
Возвращаясь в лабораторию: самопроизвольная терминация определенно не происходит, когда животное целенаправленно пугают перед поимкой (или в момент, когда оно выходит из состояния неподвижности) и/или неоднократно укладывают на спину. В этом случае морская свинка (или другое животное) остается парализованной гораздо дольше нескольких минут. Когда процесс, обусловленный страхом, повторяется многократно, животное остается неподвижным в течение значительно более длительного периода – настолько, что мы вышли пообедать и, вернувшись, обнаружили, что оно все еще неподвижно лежит на спине.
Применение в терапии травмы
Лишь небольшая горстка ученых-бихевиористов серьезно интересовалась тонической неподвижностью как биологической основой травмы. Некоторые недавние авторы из их числа предположили, что неподвижность по своей сути травматична. Мой опыт показывает: подобная точка зрения может привести к неверным умозаключениям. Это ограничивает понимание травмы, а также возможности эффективного терапевтического вмешательства. Моя клиническая работа с тысячами клиентов подтвердила, что состояние неподвижности возможно переживать как при страхе, так и в отсутствие оного. В самом деле, я считаю, только тогда, когда неподвижность неразрывно и одновременно сочетается с сильным страхом и другими сильными негативными эмоциями, мы получаем устойчивую травматическую петлю обратной связи в виде стойкого посттравматического стрессового расстройства. Мой опыт, начиная с Нэнси (см. главу 2), а затем со многими другими травмированными клиентами, научил меня тому, что ключ к разрешению травмы состоит в способности отделить страх от состояния неподвижности. Однако, прежде чем вернуться к животным, рассмотрю исследования двух наблюдательных личностей: невролога К. Л. Кальбаума и вымышленного детектива Шерлока Холмса.
Будучи одним из пионеров научного изучения тонической неподвижности у людей (которую он назвал кататонией), Кальбаум был прав, в 1874 году написав: «В большинстве случаев кататонии предшествуют переживание горя и тревоги и в целом депрессивные настроения и аффекты, направленные против самого пациента». Я полагаю, он говорит здесь о том, что для преобразования (переходных состояний) тонической неподвижности в паралич / самоиндуцирующуюся депрессивную петлю обратной связи – то есть в состояние хронической кататонии или (возможно) посттравматического стрессового расстройства – необходимы как неподвижность, так и значительное воздействие таких переживаний, как горе или страх.
Шерлок Холмс, само воплощение внимательного и скрупулезного наблюдателя, похоже, подтверждает мнение Кальбаума в истории мистера Холла Пайкрофта, где Холмс говорит Ватсону: «Я никогда не видел лица, на котором были бы так видны следы горя… и чего-то большего, чем горе… ужаса, который выпадает на долю немногих людей в жизни. Его лоб блестел от пота. Щеки были мертвенно-бледными, словно рыбье брюхо, а глаза дико вытаращены… Он посмотрел на клерка так, будто не узнавал его». Сильнейшее возбуждение, мертвенно-бледный цвет лица и неистовая диссоциация (широко раскрытые, словно невидящие, глаза) – все это точное описание острого паралича от испуга. Хотя травмированные люди могут не проявлять подобные симптомы постоянно, у них действительно формируется скрытое течение травматического шока в виде ПТСР.
Те немногие психологи, пишущие о тонической неподвижности (ТН) как о модели травмы, похоже, согласны, что для возникновения TН необходимы как страх, так и удержание (или, по крайней мере, восприятие человеком невозможности убежать). Здесь я полностью согласен. Однако в недавней превосходной обзорной статье Маркс и коллеги добавляют: «Все, что мы знаем из соответствующей литературы относительно животных и людей до сегодня, предполагает, что реакция ТН может быть травматичной сама по себе»27. Именно здесь я, при всем уважении, не согласен: мой клинический опыт заставляет меня отказаться от такого допущения.
После более чем четырех десятилетий «холмсовского» проницательного наблюдения за травмированными клиентами и выведения их из состояний оцепенелого ужаса я обнаружил: динамические элементы страха, тонической неподвижности и травмы образуют гораздо более сложный и нюансированный узор. Я убежден, что состояние неподвижности само по себе не травматично. Когда, например, у нетравмированных людей индуцируется неподвижность посредством «гипнотической каталепсии», они часто воспринимают эту неподвижность как нейтральную, интересную или даже приятную. Матери у млекопитающих, как правило, таскают детенышей с места на место, и они, оказавшись в тисках челюстей любящей матери, перестают извиваться и обмякают. Кроме того, во время полового акта, и особенно при оргазме, самки многих видов млекопитающих на этом пике удовольствия замирают, что (по всей видимости) увеличивает вероятность оплодотворения. Сравните с травмой, когда сильный страх (и другие сильные негативные эффекты) в сочетании с реакцией неподвижности захватывает человека и, следовательно, становится травмирующим. Подобное различие предлагает четкое обоснование для модели терапии травмы, при которой страх и другие сильные негативные аффекты отъединяются от (обычно ограниченной по времени) реакции биологической неподвижности. Разделение двух компонентов разрывает петлю обратной связи, постоянно возобновляющую травматическую реакцию. Я убежден: это и есть философский камень осознанной терапии травмы.
Маркс и его коллеги, похоже, изменяют позицию в направлении, более совместимом с моей концепцией, когда предполагают, что «для клинических целей может быть не столь важно, является ли ТН у людей феноменом «все или ничего», поскольку именно интенсивность реакции на ТН у людей может являться важным фактором в возникновении и поддержании посттравматической психопатологии». Вопросы, подобные этому, определяют важные области для междисциплинарного обсуждения. Действительно, одним из препятствий на пути прогресса по-настоящему эффективной терапии травмы было то, что клиницисты, экспериментаторы и теоретики не работали над решением таких ключевых вопросов в постоянном партнерстве.
Подводя итог: по моим наблюдениям, предпосылкой развития посттравматического стрессового расстройства является ситуация, когда человек одновременно напуган и осознает, что находится в ловушке. Взаимодействие сильного страха и неподвижности является фундаментальным основанием формирования травмы и ее поддержания, а также играет решающую роль в ее деконструкции, разрешении и трансформации. Я подробно остановлюсь на терапевтических последствиях этой взаимосвязи в главах с 5-й по 9-ю.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе