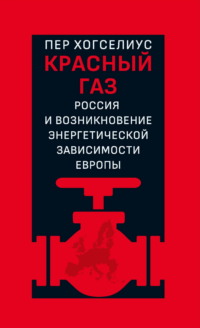Читать книгу: «Красный газ. Россия и возникновение энергетической зависимости Европы», страница 8
Директор VÖEST Рудольф Лукеш перечислил уникальные возможности, которые, по мнению Австрии, давал это проект. Предполагаемая сделка с газом и трубами могла бы позволить эффективно решить насущные проблемы, стоящие перед двумя самыми важными австрийскими государственными предприятиями: прогнозируемый дефицит газа для ÖMV, а для VÖEST – потенциальное ослабление его позиций на рынках стран Восточного блока во время кризиса в международной сталелитейной промышленности. По-видимому, правительство Австрии уже на раннем этапе согласилось именно с этой точкой зрения. Договоренность с СССР также предоставляла канцлеру Клаусу прекрасную возможность для того, чтобы продемонстрировать свою готовность укреплять связи Австрии не только с ЕЭС, но и со странами советского блока. Правительство Австрии также надеялось, что газовый проект, разработка которого проходила в критический момент, мог бы смягчить недовольство Кремля в связи со стремлением Австрии к взаимодействию с ЕЭС.
Тревожное событие: Шестидневная война
Советско-австрийская принципиальная договоренность помогла в целом ускорить реализацию проекта по созданию трансъевропейского трубопровода. Благодаря открывающимся перспективам сотрудничества Finsider с компаниями Mannesmann, Thyssen и VÖEST активизировались переговоры Италии с СССР. Итальянское правительство вновь подтвердило свою приверженность этому проекту. Кроме того, компания Gas de France, которая в отличие от ENI или ÖMV ранее не проявляла особого энтузиазма, в первый раз официально сообщила о готовности импортировать советский природный газ. Вскоре после этого СССР проинформировал западноевропейских партнеров о подписании «протокола» с Чехословакией, которая в противоположность Венгрии и Югославии была рада стать одним из участников этого проекта24.
В результате проект получил мощный импульс для последующего динамичного развития, что заставило Алжир и Нидерланды, главных конкурентов СССР на западноевропейских рынках, приступить к лихорадочным действиям. Алжирская Sonatrach и нидерландская NAM Gas Export активизировали попытки заключить экспортные договоры с Austria Ferngas, с ENI и с Gas de France. Итальянцы, в 1965 г. заключившие крайне выгодную сделку с Ливией, к огорчению Алжира, умело сталкивали потенциальных экспортеров друг с другом. Французы пытались делать то же самое. В январе 1967 г. стало известно, что Sonatrach обратился к Италии и Франции со «встречным предложением», стремясь сорвать сделку по запланированному строительству советского газопровода. А в феврале появилась информация о том, что якобы возобновились и «резко ускорились» переговоры ENI с нидерландской компанией NAM. Когда в марте 1967-го советская делегация прибыла в Рим на первый раунд коммерческих переговоров с ENI и Finsider, то итальянцы, чтобы оказать давление на СССР, в качестве аргумента начали ссылаться на предложения 25 алжирцев и голландцев.
Хотя строительство газопровода фактически являлось международным проектом, советская сторона отметила, что хочет вести переговоры с каждым потенциальным импортером отдельно. В связи с этим советско-австрийские переговоры имели только косвенное отношение к аналогичным переговорам СССР с Италией и Францией. В начале декабря 1966 г. австрийский вице-канцлер Фриц Бок в сопровождении руководителей компаний ÖMV и VÖEST приехал в Москву. Он передал советскому правительству подробное предложение по поводу участия Австрии в предполагаемой сделке по встречной торговле. Речь шла в первую очередь о природном газе, стальных трубах, различном оборудовании, а также об условиях кредитования. Австрийское предложение предполагало реализацию широкомасштабных планов, изначально разработанных СССР и Италией, по строительству 5 тыс. км газопровода из Сибири в Западную Европу. По предварительным оценкам, для создания такого газопровода потребовалось бы 1,5 млн тонн стальных труб. Австрия предлагала, чтобы 300 тыс. тонн высококачественных толстых стальных листов было произведено компанией VÖEST, а производство еще 500 тыс. тонн заказано немецким партнерам. Эти же немецкие компании могли бы изготавливать также 1220-миллиметровые газовые трубы из австрийских и немецких стальных листов. Остальные трубы, меньшего диаметра, можно было бы поставлять из Италии и Франции. СССР, в свою очередь, ежегодно экспортировал бы в Западную Европу 10–12 млрд кубометров природного газа26.
Хотя предполагалось, что всю ответственность за судьбу переговоров возьмут на себя ÖMV и VÖEST, австрийское правительство продемонстрировало, что и оно может и хочет играть конструктивную и полезную роль. В середине марта 1967 г. Вена вновь подтвердила приверженность газовому проекту в связи с официальным визитом в Москву канцлера Клауса и министра иностранных дел Луйо Тончич-Соринь. Обе стороны отметили важность проекта и заявили о том, что рассматривают его «как основу для серьезного расширения торговых связей» и для улучшения в целом советско-австрийских отношений. Стороны договорились о том, что «следует продолжать переговоры о поставках газа из СССР в Австрию при условии, что газопровод будет проходить через австрийскую территорию и что в его строительстве примут участие австрийские компании»27.

Рис. 4.3. Проект трансъевропейского газопровода для экспорта сибирского природного газа в Австрию, Италию и Францию
Источник: Suddeutsche Zeitung, April 22, 1967.
Вскоре после этого ÖMV и VÖEST провели с Мингазпромом и Министерством внешней торговли СССР первый раунд коммерческих переговоров. В этих переговорах также приняли участие представители крупных немецких сталелитейных компаний Mannesmann и Thyssen. Делегацию ÖMV возглавлял генеральный директор Людвиг Бауэр, а делегацию VÖEST – Рудольф Лукеш. Компанию Mannesmann также представлял ее главный руководитель Йос ван Беверен. Советскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Николай Осипов, а Мингазпром представлял Алексей Сорокин, заместитель Алексея Кортунова. Оба они впоследствии часто посещали Западную Европу, играя ключевую роль в проведении переговоров с различными западноевропейскими газовыми компаниями, в связи с чем во многом повлияли на организацию долгосрочных поставок газа в Западную Европу28.
Хотя в ходе первого раунда переговоров и не удалось сформировать консенсус по таким вопросам, как цена на газ, сами переговоры проходили в исключительно конструктивной атмосфере. Ни у кого не было сомнений, что обе стороны действительно стремятся к тому, чтобы проект реализовался. Также успешно продолжались и советско-итальянские переговоры. В апреле 1967 г. было опубликовано совместное заявление ENI и СССР, в котором говорилось о том, что стороны заключили соглашение по поводу «фундаментальных проблем, касающихся импорта Италией советского природного газа и поставок из Италии труб, машин и иного оборудования». Затем 10 мая 1967 г. состоялось трехстороннее совещание между ÖMV, ENI (которая на этой встрече также представляла интересы GdF) и советской стороной, в результате чего проект получил дальнейший импульс для развития. Цель, обозначенная на этом совещании, состояла в том, чтобы к сентябрю 1967 г подготовить OQ договор и в 1970 г. начать экспорт газа.
Однако в конце мая переговоры серьезно затормозились, после того как погиб в автомобильной катастрофе Рудольф Лукеш, инициатор проекта и главный переговорщик с австрийской стороны. Затем, в связи с тем что 5 июня началась война на Ближнем Востоке, судьба проекта стала еще более неопределенной. Министры нефтяной промышленности арабских стран требовали введения нефтяного эмбарго против стран, дружественных по отношению к Израилю. Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Ливия и Алжир ввели ограничения на поставки нефти в США, Великобританию и в меньшей степени в Германию. Были перекрыты Суэцкий канал, а также ряд нефтяных трубопроводов. Всего лишь за несколько дней объемы поставок арабской нефти сократились на 60 %. Учитывая, что три четверти объемов нефти поступало в Западную Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки, для поддержания нормального уровня поставок было необходимо принять экстренные меры30.
Война началась как раз в то время, когда в Гамбурге проводился Всемирный газовый конгресс – важное мероприятие, которое каждые три года организуется Международным газовым союзом (МГС). СССР активно участвовал в работе этого конгресса и, пользуясь возможностью, не преминул позиционировать себя как будущего важного экспортера газа. События на Ближнем Востоке позволили советским делегатам дистанцироваться от экспортеров углеводородов этого региона. В отличие от арабских экспортеров газа, утверждали они, СССР всегда выступал как надежный партнер на международном топливном рынке. Заместитель министра газовой промышленности Сорокин заявил, что Москва «готова начать поставлять газ немедленно и в любых объемах по текущим рыночным ценам». Он также подтвердил, что уже идут переговоры с Австрией, Италией, Францией и Японией, а также готовятся переговоры с Финляндией. На конференции Сорокин был избран новым президентом МГС31.
Шестидневная война оказала неоднозначное влияние на будущее экспорта советского газа. С одной стороны, природный газ с Востока мог стать хорошей альтернативой рискованным морским перевозкам и возможностью для зависимых от импорта стран диверсифицировать поставки и в топливном, и в географическом отношении. С другой стороны, война напомнила о рисках, связанных с глобальной энергетической торговлей, продемонстрировав, с какой легкостью геополитические неурядицы могут спровоцировать кризис. С учетом этого возникали сомнения по поводу того, что импорт природного газа из-за железного занавеса представляет собой оптимальный способ решения энергетических проблем Западной Европы. Как отметил один из экспертов, «нельзя забывать о том, что поставки газа из Алжира или из СССР сопряжены с не меньшими политическими неопределенностями, чем те, которые отчетливо проявились в случае поставок арабской нефти»32.
В конце июня 1967 г. совет директоров VÖEST сообщил, что переговоры по газу и стали с СССР некоторым образом «зашли в тупик». Кроме того, руководство заявило, что французские партнеры, которые с конца 1966 г. заявляли о приверженности проекту, по всей вероятности, практически утратили к нему интерес. Создавалось впечатление, что Франция в конечном счете хотела сохранить за собой возможность импортировать газ из СССР только с целью оказания давления на других потенциальных экспортеров. Эта точка зрения, как представляется, нашла подтверждение, когда в середине июня 1967 г. правительства Франции и Алжира достигли принципиальной договоренности о поставках больших объемов газа из Сахары в новый французский порт для сжиженного природного газа недалеко от Марселя. Планировалось начать поставки в 1970 г. и достигнуть уровня плато в 3,5 млрд кубометров в 1975 г Помимо этого Франция объявила, что на ее территории были обнаружены перспективные газовые месторождения, в результате чего, как предполагалось, внутренние запасы природного газа увеличатся вдвое. Затем в июле поступило сообщение о том, что «скорее всего» Франция не будет участвовать в советском газовом проекте33.
Перспектива импорта советского газа Италией тоже становилась все более неопределенной. Итальянцы сталкивались с определенными сложностями при переговорах с советской стороной, особенно когда речь шла о финансовых условиях. Непосредственно перед началом Шестидневной войны высокопоставленная итальянская делегация прибыла в Москву с целью продолжить торговые переговоры. Однако по возвращении делегации в Италию между компанией ENI и итальянским правительством разразился скандал. Министр внешней торговли Италии Джусто Толлой обвинил ENI в том, что, когда компания готовила торговую газовую сделку с СССР, она недостаточно привлекала к этому правительство. Сообщалось, что после арабо-израильской войны сделка с Советами выглядит совсем в новом свете. Как отмечалось компанией VÖEST, итальянцы боялись, что если в советско-итальянских политических отношениях возникнут «осложнения» того или иного рода, то СССР может использовать угрозу внезапного прекращения подачи газа по политическим соображениям34.
VÖEST и ÖMV были крайне обеспокоены таким поворотом событий, опасаясь, что переговоры между СССР и Италией могут прекратиться. Если это произойдет, то не будет построен трансъевропейский газопровод и реализация разработанного покойным Р. Лукешем оригинального плана, предполагающего участие Австрии в газовом проекте, будет поставлена под угрозу. Австрийцы размышляли над тем, не захочет ли Советский Союз в случае полного выхода Италии из проекта рассмотреть в качестве альтернативного импортера сибирского газа Западную Германию и тем самым все же реализовать проект строительства газопровода. Однако в то время советско-германские отношения были, мягко говоря, достаточно прохладными, что делало маловероятным участие в этом проекте Германии. На самом деле еще Р. Лукеш пытался прозондировать у федерального правительства в Бонне возможность привлечения Германии, но его попытки были встречены с подозрением35.
Обсуждение цены на газ
Компании ÖMV и VÖEST уже начали готовиться к тому, что переговоры по поводу газа и труб не будут иметь продолжения, но в середине августа 1967 г. советская сторона совершенно неожиданно проинформировала Вену о намерении приехать в Австрию для дальнейших обсуждений. Спустя две недели, 30 августа 1967 г., советская делегация, состоявшая из п человек, приземлилась в венском аэропорту Швехат. Оттуда их отвезли в романтический замок Hernstein-Berndorf, расположенный в другой части Австрии, где, как предполагалось, они пробудут в течение двух недель. Осипов, Сорокин и другие члены советской делегации были в восторге от роскошной феодально-аристократической обстановки, в которой советско-австрийские переговоры могли перейти в более интенсивную фазу36.
Кроме представителей ÖMV, VÖEST и немецких сталелитейных компаний к консультациям также подключили представителей региональных газовых компаний, которые впоследствии должны были стать главными потребителями советского газа. Правда, их пригласили принять участие только в нескольких отдельных встречах. Основу переговоров составлял «рамочный договор», который СССР с одобрения Австрии составил заранее, а также два еще более подробных документа, относящихся к торговле газом и торговле трубами соответственно. Поскольку рассмотрение вопроса о возможном транзите красного газа в Италию и другие страны было на время отложено, то основной акцент в этих документах был сделан на австрийском импорте советского газа и на экспорте стальных труб компанией VÖEST37.
Советский Союз предлагал, чтобы газ начал поступать через железный занавес в 1971 г. в объеме 0,3 млрд кубометров ежегодно. Затем планировалось постепенно увеличивать объемы подаваемого газа на 0,3 млрд кубометра в год до 1975 г. – до того момента, когда будет достигнут уровень плато в 1,5 млрд кубометров. Это весьма консервативное предложение разочаровало австрийцев, которые надеялись начать импортировать газ гораздо раньше. ÖMV выступила с предложением начать импорт уже в 1968 г. сначала в объеме 0,5 млрд кубометров, а затем резко увеличить объемы с целью достичь уровня плато в 1,5 млрд кубометров уже в 1970 г. ÖMV избрал такую наступательную стратегию частично по необходимости, поскольку ее внутренние запасы сокращались с большой скоростью. Учитывая сложившуюся к тому времени ситуацию, можно предположить, что в этом проявилось и стремление ÖMV договориться о поставках на австрийский рынок газа из СССР раньше, чем Austria Ferngas договорится о поставках природного газа из какой-либо другой страны38.
В советском предложении предусматривался экспорт газа в Австрию по трансъевропейскому газопроводу, который должен был соединить СССР не только с Австрией, но и с Италией и, возможно, Францией. Поскольку строительство этого газопровода предполагалось завершить только в 1971 г., Советский Союз доказывал, что и поставки природного газа в Австрию не могут начаться раньше этого времени. Неопределенность, проявившаяся в последнее время по поводу участия Италии в схеме импорта советского газа, отражала волнения в связи с тем, что если газопровод и будет построен, то это случится гораздо позже, чем планировалось. Однако, по мнению ÖMV, на начальном этапе могли быть использованы резервные мощности советско-чехословацкого газопровода «Братство», который успешно был введен в эксплуатацию в июне 1967 г. Тогда, для того чтобы начать экспорт газа в Австрию, не нужно будет ждать завершения строительства более мощного газопровода39.
Австрия, которая была хорошо осведомлена о положении дел в газовой промышленности Чехословакии, знала, что в первые годы эксплуатации газопровода «Братство» его не планировалось использовать на полную мощность. Более того, в это время уже велись переговоры с чехословацкими государственными структурами о возможности соединения австрийских и чехословацких газопроводных систем. К этому времени уже началась «виртуальная» чешско-австрийская торговля, осуществляемая в рамках соглашения 1966 г. о совместной эксплуатации газового месторождения Цвендорф, расположенного в обеих странах. Однако, учитывая проблему геологической нестабильности, было ясно, что вопреки изначальной договоренности ÖMV не будет иметь возможности импортировать с этого газового месторождения 150 млн кубометров в год. В 1968 г. доступными будут только 80 млн кубометров, а на 1969 г. планировалось получить 120 млн кубометров. В такой ситуации чешская внешнеторговая организация Metalimex объявила о готовности продавать недостающие ежегодные объемы с других газовых месторождений. Кроме того, Metalimex предлагала летом дополнительно продать Австрии 340 млн кубометров газа – объем, которого, как предполагалось, должно было хватить на трехлетний период (1968–1970). Однако в отличие от цвендорфского газа этот газ пришлось бы транспортировать в Австрию по газопроводу. Компания ÖMV считала, что газопровод, соединяющий Австрию и Чехословакию, можно спроектировать таким образом, чтобы иметь возможность одновременно транспортировать и чешский, и советский газ, и пыталась убедить советскую сторону, что такая схема была бы выгодной и для Советского Союза. Советская делегация пообещала рассмотреть этот вопрос, но сразу давать согласие на это 40 предложение не стала.
Еще одним спорным вопросом, возникшим на переговорах в замке Хернштайн-Берндорф, была цена на газ. ÖMV доказывала, что точкой отсчета в этом вопросе должна быть цена, оговоренная в принятом за несколько лет до этого контракте на экспорт голландского газа в Германию, Бельгию и Францию. При определении цены австрийцы ориентировались на цену, устанавливаемую компанией NAM Gas Export на границе Нидерландов с Германией— на тот момент это было 12,50 долл, за 1 тыс. кубометров. Более высокая цена могла быть установлена только на том основании, что советский газ имел более высокие показатели теплотворности. Советские представители были удивлены тем, что, по мнению австрийцев, можно было в принципе обсуждать такую низкую цену, и доказывали, что отправной точкой должна быть голландская цена плюс расходы на транзит от газового месторождения в Северных Нидерландах до австрийской границы41.
Однако ситуация выглядела бы совершенно иначе при рассмотрении вопроса об импорте австрийского газа в свете предполагаемой советско-итальянской торговли газом. ÖMV сослалась на всем известный факт: в широко разрекламированном договоре между ENI и Ливией, который был подписан в 1965 г., цена на газ была установлена на уровне 14,30 долл., что, учитывая более высокую теплотворность газа из Сахары, приблизительно соответствовало цене голландского газа за единицу энергии. В переговорах с СССР ENI заявила, что ливийская цена является «абсолютным [верхним] уровнем», на который компания готова согласиться. Учитывая, что в этом случае транзит был бы намного короче, можно было бы предположить, что советская сторона согласится осуществлять поставки газа в Австрию даже по более низкой цене. Затраты на транзит газа от чехословацко-австрийской границы до австрийско-итальянской границы оценивались в 0,14 долл, на 1 тыс. кубометров. Однако проблема, по крайней мере с точки зрения Австрии, состояла в том, что при переговорах с советской стороной итальянцы не дали согласия вообще ни на какую цену. Одной из причин, почему переговоры между ENI и СССР зашли в тупик, мог быть тот факт, что Москва хотела сначала договориться о цене на газ с Австрией42.
Итак, ÖMV и СССР так и не смогли договориться даже о самой приблизительной цене на газ. Советская делегация покинула замок Херштайн— Берндорф, переговоры завершились, разница в предложениях между австрийской и советской сторонами по-прежнему составляла 4,20 долл. Это означало, что советские делегаты предложили цену за газ, которая примерно на 30 % превышала цену, которую запрашивали австрийцы.
Проблемы возникли и тогда, когда подошел момент разработки финансовых условий. СССР, который постоянно испытывал дефицит твердой валюты, хотел получить крупный кредит на покупку «австрийских стальных труб», который собирался погасить за счет средств, полученных за продажу газа. Однако предполагалось, что период погашения кредита составлял бы не более шести лет, и главной проблемой была организация платежей после этого срока. После погашения кредита СССР хотел бы получать плату за газ наличными. Австрийские переговорщики, наоборот, получили инструкции от своего правительства договориться о схеме, в соответствии с которой советский газ будет оплачиваться за счет экспорта австрийских промышленных товаров. Этот вопрос не мог быть решен на состоявшихся переговорах и, очевидно, требовал рассмотрения на более высоком политическом уровне44.
Несмотря на некоторые разногласия, отмечалось, что переговоры в замке проходили в позитивной и конструктивной атмосфере. Министерство иностранных дел в Вене, получив информацию о том, что СССР согласился рассмотреть австрийское предложение о начале импорта природного газа уже в 1968 г., с удовлетворением заслушало доклады ÖMV и VÖEST. Хотя еще не были решены некоторые важные вопросы, складывалось общее впечатление, что договор в итоге будет подписан45.
ÖMV, которая была уверена в положительном исходе, приступила к завершающей фазе подготовки контракта с Чехословакией по строительству чехословацко-австрийского газопровода, размеры которого были намного больше, чем требовалось для торговли газом между этими двумя странами. По этой линии ÖMV запланировала импорт 100 млн кубометров чехословацкого газа в 1968 г., 170 млн кубометров в 1969 г. и 160 млн кубометров в 1970 г. Однако диаметр труб в 500 мм позволял транспортировать газ в объемах, почти в 10 раз превышающих эту цифру. Это дало бы возможность ÖMV импортировать не только чехословацкий, но и советский газ, причем в больших объемах. По мнению компании, теперь имелась реальная возможность импортировать советский газ «независимо от того, будет ли на самом деле построена запланированная линия газопровода, проходящая из России в Австрию через Италию»46.
И все же Австрия продолжала горячо надеяться, что рано или поздно будет построен трансъевропейский газопровод, пропускная способность которого будет почти в 10 раз больше, чем у независимой линии, соединяющей Чехословакию и Австрию. В связи с этим представители ÖMV организовали встречу с делегацией от ENI, для того чтобы обсудить условия транзита газа через Австрию. Австрийцы предложили создать специальную газовую транспортную компанию, которой бы совместно владели ÖMV, ENI и, возможно, будущие потребители газа. ENI выразила согласие с основными принципами такой сделки. Если говорить о технической стороне дела, то обе компании должны были разработать «базовое соглашение», в котором был бы оговорен точный маршрут транзита. Предполагалось, что конечным пунктом в Италии станет Тарвизио на северо-востоке Италии, но еще предстояло проложить оптимальный маршрут по территории Австрии. Выбор маршрута также зависел от того, будет ли в этом проекте участвовать Франция. Поскольку информации об этом не было, требовалось разработать два технических варианта: один с участием Франции, второй без нее47.
Что же касается двусторонних советско-австрийских переговоров, то их очередной раунд состоялся в Москве осенью 1967 г. От них многого ждали, но особых результатов они не дали главным образом потому, что между ÖMV и советской стороной возникли разногласия в вопросе о цене за газ. Это в свою очередь затормозило дальнейшие переговоры по экспорту труб, поскольку без зафиксированной цены на газ невозможно было окончательно договориться обо всех деталях встречной торговли.
Для Москвы договоренность с Австрией о цене на газ имела принципиально важное значение, поскольку это могло бы стать неким ориентиром в последующих переговорах с другими западноевропейскими импортерами. В то же время СССР не собирался до бесконечности настаивать на своей цене, рискуя потерять возможность выхода на австрийский рынок и тем самым уступить его другим экспортерам. К началу декабря Советский Союз начал проявлять нетерпение. От Вальтера Водака, посла Австрии в СССР, требовали надавить на ÖMV и VÖEST. Затем в середине января 1968 г. была предпринята еще одна попытка договориться о цене на газ. Теперь результат был более обнадеживающим. Оказалось, что по трем важным пунктам можно достигнуть согласия48:
1. Поставки газа должны начаться уже в 1968 г.
В этом вопросе советская сторона пошла на уступки Австрии.
2. В 1968 г. поставки будут осуществляться в скромных объемах – 0,3 млн кубометров газа и увеличатся до 0,8 млн кубометров в 1969 г. и до 1,0 млн кубометров в 1970 г. К 1971 г. поставки должны достигнуть уровня плато в 1,5 млн кубометров, и ежегодные поставки в этих объемах будут осуществляться в течение 20 лет, до 1990 г. С учетом трех лет, которые давались для «разогрева», это означало, что договор будет действовать в течение 23 лет.
3. Советская сторона предложила поставлять газ по цене 15,13 долл, за 1 тыс. кубометров в течение первых семи лет, т. е. с 1968 по 1975 г., после чего можно будет вновь вернуться к обсуждению цены. Отдельной договоренности требовал пункт о плавающей цене, регулирующей автоматические ценовые изменения49.
Совет директоров ÖMV назвал согласованную цену «вполне приемлемой, особенно по сравнению с международным уровнем и предложениями, поступающими от других стран-экспортеров». Под другими экспортерами имелись в виду Алжир и Нидерланды, предложения от которых уже были получены50. И все же эта цена была выше, чем цена на голландский газ в Северной Германии, а также превышала цену, по которой ENI согласилась платить за импорт ливийского газа, который предполагалось начать в ближайшее время. Кроме того, ÖMV была бы рада дождаться дальнейших результатов советско-итальянских переговоров о цене газа, поскольку наличие информации о цене, согласованной с итальянцами, могло бы усилить ее позиции. Однако ничто не свидетельствовало о том, что ENI и Советский Союз приблизились к подписанию договора. Наоборот, компания стала предъявлять советской стороне все больше требований. На это была своя причина – успехи Великобритании в организации добычи газа из месторождений в Северном море. Цена, установленная на этот газ, была намного ниже цены, по которой ENI покупала ливийский газ. Британский газ не предназначался на экспорт, но тем не менее это повлияло на представления Италии о том, за какую цену можно торговаться51.
Итальянская сторона, которая утверждала, что теперь при проведении советско-итальянских ценовых переговоров за ориентир следует взять цену на газ, добываемый в Северном море, стремилась договориться о цене в диапазоне от 10 до п долл. По мнению советской стороны, такие требования были возмутительными. В итоге из-за позиции, на которой теперь стояли итальянцы, переговоры прекратились. В такой ситуации австрийцы осознали, что у них остается единственная возможность – принять предлагаемую СССР цену на газ 15,13 долл. Конечно, можно было бы отложить импорт до лучших времен, но вряд ли это была хорошая идея, ведь, как считало руководство компании, ÖMV крайне нуждалась в дополнительных объемах газа, с помощью чего она могла бы восполнить свои уменьшающиеся внутренние запасы и заключить сделку по импорту раньше, чем это сделает Ferngas. А будущее покажет, адекватной ли была цена, на которую согласилась компания ÖMV52.
Хотя нужно было решить еще несколько проблем (в том числе важный вопрос о том, каким образом можно будет регулировать цену в течение 23 лет – периода действия контракта), ÖMV теперь была вполне уверена, что стороны подпишут соглашение без дальнейших задержек. Этот проект также получил дополнительную поддержку австрийского и советского правительств связи с визитом в Москву в марте 1968 г. Курта Вальдхайма, министра иностранных дел Австрии, а позднее генерального секретаря ООН. Стремясь максимально использовать газовую сделку для увеличения экспорта австрийских промышленных товаров, Вальдхайм смог уговорить председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина, чтобы за импорт советского газа компанией ÖMV оплата экспортируемыми австрийскими товарами производилась в большем объеме, чем тот, на который ранее был готов СССР. Вскоре после этого стороны также договорились об экспорте в СССР стальных труб большого диаметра, а также определили плавающую цену для торговли газом. К маю 1968 г. все нерешенные вопросы также были согласованы. Можно было начинать готовиться к формальной церемонии по подписанию контракта53.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе