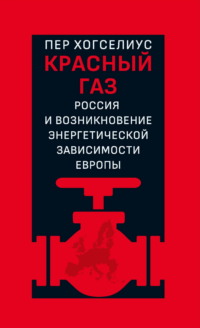Читать книгу: «Красный газ. Россия и возникновение энергетической зависимости Европы», страница 6
Попытки наладить сотрудничество с Италией и Австрией
Кортунов доказывал, что Советский Союз должен предпринять незамедлительные шаги для того, чтобы захватить значительную долю формирующегося западноевропейского газового рынка. Из всех потенциальных стран-импортеров особые надежды возлагали на Италию и Австрию. Обе страны уже активно использовали природный газ, но испытывали потребность в импорте, что было обусловлено двумя факторами: большой популярностью газового топлива, а также ограниченностью внутренних ресурсов. Учитывая прогнозы, согласно которым потребление газа должно было резко возрасти, эти две страны могли столкнуться с дефицитом газа уже в начале 1970-х гг. По словам Кортунова, итальянцы и австрийцы рассматривали в качестве экспортера газа не только СССР, но и несколько других стран, включая Нидерланды, Алжир, Ливию и даже Иран, и интересовались перспективами импорта газа из этих стран. Таким образом, у СССР появлялись серьезные конкуренты. Но Главгаз был по-прежнему уверен, что у Советского Союза есть все шансы захватить значительную долю газового рынка, поскольку СССР, в отличие от Нидерландов или Алжира, мог опираться на традиционно тесное сотрудничество с итальянскими и австрийскими государственными нефтяными и газовыми компаниями – ENI и ÖMV соответственно. Особенно прочные связи у СССР имелись с Италией, которая из-за размеров считалась самым важным потенциальным рынком17.
Внутренние разногласия, возникшие у советских руководителей по вопросу о том, можно ли выделять значительные объемы газа для экспорта, с самого начала препятствовали проведению официальных переговоров между СССР и Италией. Однако Главгаз и компания ENI сформировали неформальную «исследовательскую группу». Хотя эта группа не была законодательно оформлена и не пользовалась поддержкой Госплана, она начала разрабатывать проекты нескольких возможных схем экспорта газа. Обсуждалось строительство двух альтернативных путепроводов: первый должен был проходить по территориям Чехословакии и Австрии, а второй – через Венгрию и Югославию. Компания ÖMV была крайне заинтересована в первом варианте. Однако Италии не хотелось позволить Австрии стать главным пунктом приема газа, импортируемого из СССР в страны Западной Европы, поэтому она отстаивала вариант с Венгрией и Югославией. СССР тоже больше склонялся к этому варианту, и не только потому, что путь через Венгрию и Югославию был бы более коротким и с логистической точки зрения менее трудоемким – в частности, отпадала необходимость прокладывать газопровод через Альпы. Эта альтернатива, кроме того, обеспечила бы СССР место на газовых рынках Венгрии и Югославии. Как и многие другие западноевропейские страны, эти два социалистических государства в то время искали возможности импорта больших объемов газа. Венгрия уже начала импортировать газ в небольших количествах из соседней Румынии, а Югославия вела активные переговоры с Алжиром по поводу схемы поставок сжиженного природного газа. Рассматривая вопрос об экспорте газа в Австрию, Главгаз пришел к выводу о том, что в этом случае было бы лучше осуществлять поставки независимо от поставок в Италию. Имелось в виду, что Австрия сможет получать газ по линии, отходящей от трубопровода «Братство»18.
Проект газового экспорта, который Главгаз начал разрабатывать совместно с компаний ENI в 1964–1965 гг., обычно называли трансъевропейским газопроводом. Это название свидетельствовало о высоких амбициях ENI превратить Северную Италию в главный хаб для транзита советского газа на рынки, расположенные западнее Италии. Итальянцы по-прежнему хотели отстранить Австрию от этого проекта и усиленно пытались убедить главную газовую компанию Франции, Gaz de France, воспользоваться возможностью присоединиться к трубопроводу и импортировать советский газ через Италию. При этом предполагалось, что к этой системе может присоединиться и Швейцария.
К идее о включении этих стран, в первую очередь Франции, СССР отнесся с большим энтузиазмом. Незадолго до этого Главгаз договорился с ведущей французской компанией Gazocean о крупномасштабном экспорте сжиженного углеводородного газа (СУГ, т. е. сжиженные пропан и бутан, не путать его со сжиженным природным газом, СПГ) и теперь был бы рад увеличить объемы продаж. Также важно отметить, что Главгаз рассматривал Францию как отличного поставщика передовых технологий для газовой промышленности, в частности антикоррозийных технологий и устройств для удаления из природного газа нежелательного сульфида водорода и для формирования на его основе полезной серы, в этой области Франция занимала лидирующую мировую позицию. Экспорт природного газа во Францию мог способствовать перспективной торговле оборудованием19.
В другой части мира Япония проявляла явный интерес к импорту газа у своего огромного соседа. Японию интересовали газовые поля, расположенные в Восточной Сибири. Предполагалось, что «голубое золото» с этих месторождений по трубопроводу можно будет транспортировать на Сахалин, а оттуда в виде СПГ в Японию. В отличие от амбициозных планов Главгаза по поводу экспорта газа в Европу идея экспорта газа в Японию не вызвала возражений у Госплана, и поэтому формальные переговоры можно было начинать уже на ранней стадии. В январе 1966 г. советская делегация, членами которой были представители Главгаза, Министерства внешней торговли и Банка внешней торговли (ВТБ), отправилась в Токио с целью проведения первого раунда переговоров, включая встречи с несколькими крупными промышленными компаниями, которые стали бы главными потребителями советского газа. Япония, несмотря на тесные связи с США, не присоединилась к эмбарго на трубы большого диаметра, введенному НАТО в 1962 г. Когда для СССР стали недоступными трубы, производимые в Германии, роль Японии резко возросла, что явилось предпосылкой для расширения советско-японских торговых связей. Помимо труб и оборудования для газовой промышленности Советский Союз закупил два танкера-газовоза, которые планировалось ввести в эксплуатацию в целях упоминавшегося выше экспорта советского сжиженного природного газа во Францию. Благодаря экспорту газа в Японию СССР надеялся сохранить и далее расширить доступ к японским технологиям20.
Параллельно с усилиями, направленными на создание экспортных программ, Главгаз вел подготовку к масштабному импорту газа. Предполагаемыми партнерами были Афганистан и Иран. В октябре 1963 г. Москва заключила первый контракт по импорту газа с Афганистаном, в рамках которого началось строительство газовой линии, проходившей от газовых месторождений в Северном Афганистане до территории Узбекской ССР. Эта линия помогла укрепить находящуюся в процессе формирования систему газопроводов в Центральной Азии, а также увеличить объемы поставок газа на Урал. Затем в январе 1966 г. был подписан еще более крупный контракт с Ираном, который предусматривал ежегодные поставки газа в размере 10 млрд кубометров через ирано-советскую границу в Азербайджан. Главная цель импорта газа состояла в том, чтобы улучшить газоснабжение на Кавказе и тем самым высвободить большие объемы азербайджанского газа для дальнейших поставок в северном направлении. По мнению Госплана, эти объемы природного газа, высвободившиеся в результате импорта, могли бы стать источником экспорта газа в Центральную и Западную Европу. Тогда можно было бы обойтись без газопровода, предназначенного для экспорта газа с территории Сибири, строительство которого было сопряжено с определенными рисками. Главгаз с этими соображениями не соглашался и продолжал доказывать, что экспортировать нужно только сибирский газ21.
Формирование экспортной стратегии
В ходе внутренних советских дебатов по поводу Сибири и возможности экспортирования сибирского газа сторонники радикальной стратегии использования сибирских богатств – и не только в целях экспорта – находили поддержку своей позиции в регулярно поступавших из Тюмени сообщениях об открытии новых газовых месторождений. По оценкам Главгаза, к началу 1965 г. вероятные запасы природного газа в этом регионе составляли около 5 трлн кубометров, что было «значительно больше разведанных к настоящему времени запасов всех газоносных месторождений СССР». Спустя год эта цифра удвоилась22. Становилось очевидным: газовые богатства Тюмени настолько огромны, что Сибирь и Урал самостоятельно не смогут использовать эти объемы газа даже в долгосрочной перспективе. Эти аргументы находили все больше сторонников и позволили убедить многих участников дебатов в том, что сибирский газ нужно отправлять в западном направлении и что более интенсивное использование природного газа в качестве топлива пойдет на пользу всей стране.
Политическая поддержка, оказываемая газовой отрасли Брежневым и Косыгиным, проявилась в том, что в октябре 1965 г. Главгаз был преобразован в Министерство газовой промышленности – Мингазпром. Хотя создание этого министерства было не отдельным и уникальным событием, а частью важных косыгинских реформ, был очень важен психологический эффект этого события. Для Кортунова это означало повышение статуса газовой промышленности до уровня нефтяной промышленности, у которой имелось собственное министерство, созданное несколькими десятилетиями ранее. По мнению Кортунова, это решение означало «признание того, что наша газовая промышленность превратилась сейчас в одну из ведущих отраслей народного хозяйства, оказывающую все возрастающее влияние на развитие топливно-энергетической базы и повышение производительности общественного труда»23.
Осенью 1965 г. Кортунов поручил главному проектному институту газовой отрасли – Гипроспецгазу – выслать экспедицию в район Крайнего Севера и сформулировать конкретные предложения по поводу возможности поставки сибирского газа на Запад. Группа из пяти экспертов, которую возглавил главный инженер Гипроспецгаза Дерцакян, добиралась до глухих районов Сибири на лодке, на вертолете и на дрезине. В декабре 1965 г. был представлен совершенно новый долгосрочный план постепенного перехода на сибирский газ в качестве главного источника энергетического снабжения. Этот проект охватывал весь Северо-Западный регион СССР. Кортунов предложил, чтобы гигантская система трубопроводов начиналась в северных районах Тюменской области и тянулась далее на расстояние нескольких тысяч километров, доходя до Ленинграда, Белоруссии, Прибалтийских республик, а также до экспортных рынков в Центральной и Западной Европе. Предполагалось, что если все пойдет по плану, то всего через несколько лет можно будет поставлять сибирский газ во все эти внутренние и зарубежные регионы24.
По планам Мингазпрома, ежегодные поставки сибирского газа должны были составить не менее 90 млрд кубометров и позднее увеличиться за счет дополнительных мощностей. Консерваторы были возмущены этим сверхамбициозным, с их точки зрения, нереалистичным и даже опасным планом. Председатель Госплана Байбаков и его заместитель Александр Рябенко энергично выступили против этого проекта, назвав его «глубоким переосмыслением вопросов, касающихся выбора наиболее экономичного варианта поставок газа». Центральные органы планирования не спешили запускать масштабную программу развития Сибири, поскольку считали, что в первую очередь необходимо «максимально использовать мощности уже существую-25 щих газопроводов».
Политическое руководство было на стороне Кортунова. На XXIII партийном съезде, состоявшемся весной 1966 г., Брежнев отметил необходимость «дальнейшего ускоренного развития нефтяной и газовой промышленности». Председатель Совета министров Косыгин подчеркнул, что из этих двух отраслей газовая промышленность должна развиваться более быстрыми темпами и ее объемы добычи должны вырасти со 128 млрд кубометров в 1965 г. до 225–240 млрд кубометров в 1970 г., т. е. увеличиться более чем на 80 %26. При этом добычу нефти планировалось увеличить только на 45 %. Сохраняла актуальность долгосрочная задача, сформулированная Хрущевым еще в 1961 г., – увеличить производство газа к 1980 г. до 720 млрд кубометров, и это должно было произойти прежде всего благодаря сибирскому природному газу. Совет министров дал Мингазпрому разрешение на проведение ускоренными темпами поисково-разведочных работ на севере Тюменской области.
В то же время между потенциальными экспортерами разгоралась ожесточенная международная борьба за доминирование на формирующемся западноевропейском газовом рынке. Кортунов пытался убедить Брежнева и Косыгина в том, что если СССР хочет принять участие в этой гонке, то нужно приступать к незамедлительным действиям. Он доказывал, что необходимо как можно скорее завершить строительство трубопровода из Сибири в Европу, – трубопровода, который начиная с 1970-х гг. должен обеспечивать экспорт 10 млрд кубометров сибирского газа. Другие источники, находящиеся в основном на Украине, следует привлекать только на начальном этапе. Госплан по-прежнему относился к этому проекту скептически, несмотря на правительственное решение об освоении сибирских газовых месторождений. Центральные органы планирования настаивали, чтобы Мингазпром изучил возможность альтернативной экспортной схемы, без включения объемов сибирского газа. В частности, плановики полагали, что экспорт газа в Западную Европу было бы лучше скоординировать с импортом газа из Ирана, который, согласно договоренности 1966 г., должен был осуществляться с 1970 г27.
Байбаков и его коллеги не были уверены, что экспорт сибирского газа на большое расстояние, в частности в Италию, будет экономически эффективным. Кортунов представил им подробные расчеты, доказывающие обратное. Как предполагалось, реальные издержки на транспортировку сибирского природного газа до западной границы составят 5 руб. 60 коп. за тонну эталонного топлива, включая издержки на строительство почти 6000 км трубопровода, на приобретение 6,8 млн тонн стальных труб, 32 компрессорных станций, а также 4,4 млрд руб. капитальных затрат. По мнению Министерства внешней торговли, которое поддерживало проект Кортунова, было вполне возможно договориться с Италией о цене приблизительно 12–14 руб. за эталонное топливо, что дало бы существенную прибыль – 64–84 млн руб. в твердой валюте ежегодно. Учитывая, что расходы на импорт стальных труб, компрессорных станций и другого оборудования составили бы около 400 млн руб., это означало, что издержки, связанные с этой экспортной схемой, могли окупиться всего за 5–6 лет. Кортунов отмечал, что по завершении этого периода «валютную выручку от реализации экспорта газа можно будет использовать в народном хозяйстве», т. е. на цели, которые могут быть и не связаны с энергетической промышленностью28.
Однако Госплан продолжал доказывать, что планы Мингазпрома были слишком амбициозными, дорогими и чрезмерно рискованными. Когда заключали экспортное соглашении с Италией, главным пунктом которого было строительство с нуля огромной трубопроводной системы, тянущейся с территории Сибири, то предполагалось, что различные геологические, технические и логистические проблемы могут быть решены в кратчайшие сроки. Даже если бы СССР удалось договориться об импорте большого количества западных стальных труб для магистральной транспортировки сибирского газа, никто не мог дать гарантию, что этот проект окажется удачным. Кортунов был готов пойти на риск, но Байбаков считал, что эта экспортная схема может обернуться полным провалом и, кроме того, негативным образом скажется на внутреннем газоснабжении. Поэтому если и экспортировать советский газ, то не из Сибири, а из Украины, Центральной Азии или Ирана. По мнению Кортунова, было просто смешно считать экспорт газа из Сибири угрозой для безопасности внутреннего газоснабжения. Он подчеркивал, что объемы предполагаемых поставок западным импортерам будут ничтожными в общем балансе страны – они составят лишь 1,7 % общей добычи газа в 1971 г. и около 4 % запланированного уровня добычи на 1975 г. Поэтому трудно себе представить, чтобы экспорт «нанес урон промышленности страны и советским городам с точки зрения безопасности поставок газа»29.
Мингазпрому не удалось склонить Госплан на свою сторону. Правда, Кортунов собрал достаточно сильную коалицию союзников и надеялся, что они смогут убедить Центральный Комитет партии и Совет министров одобрить стратегию экспорта природного газа, и июня 1966 г. Косыгин дал официальное распоряжение Мингазпрому и Министерству внешней торговли начать «переговоры с итальянским государственным концерном ENI по поводу строительства газопровода СССР – Италия и закупок природного газа из Советского Союза, а также в связи с этим по поводу приобретения труб и оборудования для газовой промышленности на основе долгосрочного кредитования»30. В ходе последовавших советско-итальянских переговоров разговор шел исключительно об экспорте газа из Сибири, а также о встречной торговле, включая 1,3 млн тонн стальных труб большого диаметра, которые пошли бы на строительство соответствующего газопровода. Распоряжение Косыгина означало, что Советский Союз впервые заявил о своей амбициозной программе экспорта природного газа в капиталистические страны и обозначил свою роль в качестве игрока на западноевропейском рынке газа. Это был шаг в неизвестность. Никто не знал, какие последствия будет иметь это решение в долгосрочной перспективе.
Подводя итоги, можно сказать, что в период с 1964 по 1966 г. постепенно развивалась советская газовая экспортная стратегия. Она была непосредственно связана с амбициозной программой создания внутренней системы газоснабжения и, в частности, с интеграцией недавно открытых газовых месторождений в Сибири в формирующуюся сеть советских газопроводов. Внутренние разногласия по поводу будущего сибирских газовых месторождений вылились в дебаты о перспективах экспорта, во время которых некоторые советские руководители резко выступили против экспорта газа в целом. Однако главное противоречие заключалось не столько в том, следует ли подключать западноевропейские страны к советским газовым системам, сколько в том, каким образом и когда можно будет начать экспорт. Такие факторы, как обнаружение ряда неожиданно больших газовых месторождений в Сибири, а также быстро растущий интерес со стороны потенциальных импортеров в Западной Европе, все больше усиливали интерес СССР к возможности экспорта газа по ту сторону железного занавеса. Главной мотивацией была перспектива выручки в твердой валюте за продажу природного газа, однако Мингазпром также интересовал вопрос об одновременном встречном импорте стальных труб большого диаметра от ведущих западноевропейских производителей. Это поддержало бы внутреннюю систему газоснабжения и как следствие укрепило бы позиции Мингазпрома относительно других отраслей топливно-энергетического комплекса.
В советских архивных материалах ясно прослеживается, что в течение этих лет самым близким партнером СССР по сотрудничеству в газовой области была Италия. Предварительная договоренность о транзите газа через Венгрию и Югославию с последующим пересечением железного занавеса в Триесте могла подразумевать, что другим потенциальным западноевропейским импортерам отводится лишь второстепенная роль. Однако через несколько месяцев после официального советского решения о начале конкретных переговоров с концерном ENI события неожиданно повернули в другое русло – в вопросе о главном советском партнере акцент сдвинулся с Италии на Австрию. В следующей главе выясняется, как это могло случиться.
4. Австрия: первый импортер
Австрийский топливно-энергетический комплекс: наследие прошлого
Австрия была первой капиталистической страной, которая начала импортировать красный газ, и ей было суждено зависеть от восточных поставок в гораздо большей степени, чем какой-то другой западноевропейской континентальной стране. А ведь до начала 1960-х гг. Австрия славилась масштабной добычей как нефти, так и природного газа, а в период Габсбургской империи была крупным энергетическим экспортером.
Добыча нефти и газа осуществлялась в провинции Нижняя Австрия, расположенной на самом востоке республики. Серьезная геологическая разведка начала проводиться в нескольких перспективных районах вскоре после окончания Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи. Интерес к изыскательским работам и исследованиям проявлялся не только в самой Австрии, но и за рубежом. В 1931 г. Eurogasco, один из зарубежных инвесторов, который, несмотря на свое название, представлял в основном интересы американских предпринимателей, объявил об обнаружении в Австрии первого газового месторождения. Это месторождение находилось в Оберлаа, всего лишь в 6 км от муниципальной электростанции, расположенной в юго-восточном пригороде Вены. Eurogasco договорилась с коммунальной электрической компанией Wiener Elektrizitatswerke о строительстве газопровода, проходящего от газового месторождения до электростанции, и об использовании газа для производства электричества. Природный газ также начал использоваться для производства бытового газа, который поставлялся в венскую систему газораспределения, что уменьшало зависимость от импортируемого угля.
Следующий этап активизации изыскательских работ наступил в 1938 г., после аншлюса Австрии нацистскими войсками. Весной 1939 г. в результате совместных усилий компаний Eurogasco, Royal Dutch Shell и Vacuum Oil крупные месторождения газа были обнаружены в Адерклаа. Однако вскоре после этого началась Вторая мировая война и концессии иностранных компаний попали в руки немецких корпораций. Немцы планировали построить газопровод из Адерклаа, который доходил бы до главных потребителей в Нижней Австрии. Для распределения газа была создана компания под названием Sudostdeutsche Ferngas AG1.
В 1945 г контроль над австрийскими нефтегазовыми запасами опять перешел в другие руки, это произошло после того как советские войска освободили Вену и Восточную Австрию от нацистов. Под советское управление теперь перешли нефтяные и газовые месторождения, которые находились под контролем Германии и в которые еще до войны американские и западноевропейские компании сделали крупные инвестиции. Сначала СССР закрывал газовые и нефтяные месторождения и вывозил из Австрии оборудование и технику в качестве военных трофеев. Однако скоро от такой политики отказались, поскольку оказалось, что гораздо выгоднее использовать оборудование на австрийских месторождениях и отправлять австрийскую нефть на восток. Для этих целей было создано предприятие под названием Советское управление по добыче полезных ископаемых (Sowjetische Mineralolverwaltung, SMV). СССР не проявлял особого интереса к австрийскому газу, который было не так легко переправлять на его территорию. Поэтому газ, добываемый компанией SMV, в основном сжигали. Скорее всего, не производилось никаких серьезных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. К 1955 г. SMV было добыто 766 млн кубометров природного газа, причем 32 % этого объема было потеряно. Остальное количество по сети трубопроводов, которая была проведена еще нацистской Германией, поставлялось пользователям, находившимся в относительной близости от газовых полей2.
Компания SMV полностью принадлежала СССР, но на практике ее ежедневная деятельность в значительной степени зависела от австрийских геологов, инженеров и техников. Сотрудничество между советскими и австрийскими специалистами давало австрийской стороне то, к чему не было доступа у других западноевропейских стран: знакомство с опытом советского управления и инженерной культурой. Как оказалось позднее, эти факторы имели огромное значение.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе