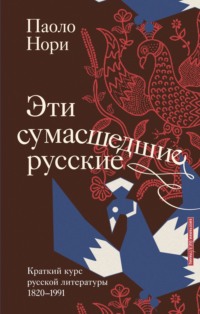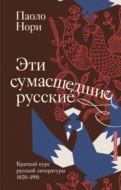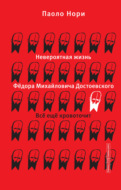Читать книгу: «Эти сумасшедшие русские. Краткий курс русской литературы 1820-1991», страница 3
2.5. Для чего нужно искусство?
По мнению Шкловского, то, что мы называем искусством, нужно нам, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, чтобы камень снова стал камнем: «Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание». Для достижения этой цели искусство, считает основатель русского формализма, использует два приема: «прием „остранения“ вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия».
Дойдя до этого места в статье, я первым делом подумал: «Вот черт, я ничего не понимаю в этом увеличении трудности и долготы восприятия!»
Я стал читать дальше и наткнулся еще на одну цитату из Льва Толстого, которая, как мне показалось, прекрасно все объясняла.
2.6. Еще одна цитата из Толстого
Другая цитата взята из его статьи под названием «Стыдно», в которой писатель ставит вопрос: почему у нас существует этот жестокий обычай наказывать людей, раздевая их догола, бросая на землю и «избивая прутьями по заднице», «стегая по оголенным ягодицам»?
И почему именно этот глупый, дикий прием причинения боли, а не какой-нибудь другой: колоть иголками плечи или какое-либо другое место тела, сжимать в тиски руки или ноги или еще что-нибудь подобное?
Толстой описывает явление, широко распространенное в тогдашней России. Речь идет о порке – наказании, заключавшемся в том, что раздетого догола человека бросали на землю и избивали розгами по ягодицам.
В те годы порка была делом обычным, но ее правомерность вызывала много споров, и позже мы увидим почему. Если бы Толстой спросил: «Зачем пороть людей?» – все поняли бы, о чем идет речь, но разве это был бы тот же вопрос?
Мне кажется, тогда его мысль прозвучала бы иначе или, правильнее сказать, возымела бы совсем другой эффект, потому что порка как явление предстала бы перед читателями словно запакованной.
Каждый опирался бы на свое представление о порке, возможно, вспомнил бы споры о допустимости пороть крепостных крестьян (в то время в России еще было крепостное право), припомнил, как он сам относился к этому наказанию, и сказал себе: «Так вот что Толстой думает о порке. Я же, напротив, согласен с Гоголем».
Но Толстой не произносит слова «порка», он говорит о том, как человека раздевают, бросают на землю и бьют его розгами по голым ягодицам.
Оттягивая момент узнавания (не сразу понятно, что речь идет о порке), удлиняя описание, растрачивая энергию восприятия, а не сохраняя ее, Толстой втягивает читателя в процесс порки, заставляет почувствовать, каково это, посмотреть на нее по-новому – словно вынимает ее из упаковки; у читателя нет времени вспоминать, что он думал по этому поводу, какие споры до него долетали. Перед его глазами встают люди, раздетые догола, брошенные на землю и избиваемые розгами по голым ягодицам.
Толстой описывает происходящее так, словно видит впервые.
Писательство, считает Шкловский, это попытка смотреть на мир так, будто видишь его в первый раз.
А я бы сказал, что это попытка сформировать внутри некий механизм, отвечающий за удивление.
Другими словами, если я правильно понимаю мысль Шкловского, искусство пробуждает способность, которой все мы обладаем, настраивает особый взгляд, таящийся внутри нас и оживающий, когда мы получаем необходимый толчок.
2.7. Взгляд
Пока я работал над этой книгой, ежемесячный журнал L’Uomo Vogue попросил меня написать что-нибудь о том, какой смысл я вкладываю в понятие «оригинальность», и о самой оригинальной вещи, которую мне когда-либо приходилось видеть.
У меня получился небольшой текст, который я привожу ниже.
Когда в Италии словом «оригинал» начали называть человека, который ни на кого не похож, кроме самого себя, и которого отличает необычное или даже эксцентричное поведение, Джакомо Леопарди 4 писал, что в той Италии девятнадцатого века, которую он знает, оглядываясь вокруг, он повсюду видит одних оригиналов.
Все современники Леопарди были оригиналами. Следовательно, пишет Джакомо, по-настоящему оригинальным мог считаться только тот, в ком не было ни капли оригинальности.
Справедливо.
Например, в юности, когда мне было пятнадцать лет, стремясь выглядеть более оригинальным, я делал то же, что и все пятнадцатилетние подростки в 1978 году, которые хотели казаться оригинальными: начал курить.
На первых порах было нелегко, но потом я втянулся.
Прошли годы, и, когда мне было уже сорок восемь, в 2011-м, чтобы почувствовать себя более оригинальным, я сделал то, что делали все сорокалетние, стремящиеся быть оригинальными: бросил курить. Это стоило мне больших усилий, но все же удалось.
Если вдуматься, дело обстояло так: каждый раз, когда меня одолевало желание быть оригинальным, я ничем не отличался от своих сверстников, которые, как и я, стремились быть не такими, как все.
А вот если говорить о самом оригинальном явлении, с которым я сталкивался, то на память приходит один случай с моей бабушкой.
Был такой период, когда я жил вместе с ней, и вот однажды внезапно, без предупреждения она вошла ко мне в комнату. Это было настолько неожиданно, что я вдруг увидел ее – увидел ее настоящую, без «бабушкиной» упаковки: несколько секунд я не понимал, кто это, я видел какую-то женщину, женщину из плоти и крови, и это было самое оригинальное зрелище в моей жизни. Но оригинальной была не столько бабушка, сколько тот взгляд, которым я, сам того не желая, смотрел на нее и, казалось, видел ее впервые.
У русского поэта Осипа Мандельштама есть строка: «А небо, небо – твой Буонарроти…»
Мы видим это бескрайнее небо изо дня в день, но иногда оно превращается в Буонарроти – если хорошенько присмотреться, окинуть его взглядом
поэта и привести в действие наш внутренний механизм, отвечающий за удивление.
Это и есть оригинальность.
2.8. Порка
В начале девятнадцатого века почти все образованные люди в России, то есть те, кто умел читать и писать, принадлежали к дворянскому сословию. Важнейшим коллективным опытом для этого поколения дворян стала Отечественная война 1812 года.
Под командованием Кутузова именно это поколение русских офицеров дало отпор французской армии, преследуя ее вплоть до Парижа, где познакомилось с трудами просветителей и откуда многие вернулись на родину, уверовав в лозунги «Liberté, Égalité, Fraternité» – «Свобода, равенство и братство», о которых столько читали.
И вот, снова оказавшись в России с идеями «Liberté, Égalité, Fraternité», засевшими в головах, в русском обществе они занимают положение рабовладельцев. До 1861 года в Российской империи существовало крепостное право – своего рода форма рабства, и количество крепостных крестьян (их также называли душами), которыми владел дворянин, было мерилом его богатства. Помещик, распоряжавшийся тремя тысячами душ, считался богачом, мог составить хорошую партию; а вот положение владельца трех душ было незавидным – жалкий дворянчик.
Одно из проявлений власти помещика над крепостными в России девятнадцатого века – право высечь любого холопа за малейшую провинность без всякого судебного разбирательства. Помещик принимал решение по своему усмотрению. И при желании мог распорядиться, чтобы крепостного, одну из принадлежащих ему душ, раздели догола, швырнули на землю и избивали по спине и голым ягодицам. Снова и снова.
2.9. Чичиков
В 1842 году была опубликована поэма Гоголя в прозе «Мертвые души», название которой отсылает к крепостным крестьянам (именуемым душами) и не в последнюю очередь указывает на весьма странное занятие главного героя книги, «господина средней руки» Павла Ивановича Чичикова.
Он первым из персонажей романа предстает перед читателем: «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод».
По сюжету, Чичиков путешествует в сопровождении двух слуг – лакея Петрушки, который ухаживает за барином, в том числе чистит его фрак «брусничного цвета с искрой», и кучера Селифана, любителя заложить за воротник, – по городам и весям России, больше всего пострадавшим от эпидемий, где знакомится с самыми состоятельными помещиками.
В то время в России каждые десять лет 5 проводилась перепись населения, и владельцы крестьян обязаны были платить налоги за всех крепостных, учтенных во время последней переписи. Крестьянин мог умереть уже через полгода, а хозяину еще много лет приходилось платить за него «подушную подать», хотя на самом деле он остался без работника.
Чичиков знакомился с этими помещиками и, улучив момент, заводил примерно такой разговор:
– Со времени последней ревизии много у вас умерло крестьян?
– Многие умирали с тех пор, – отвечали ему.
– А платите ли вы подати с души? – спрашивал Чичиков.
– Разумеется, как не платить!
– Тогда сделаем-ка вот что, – предлагал Чичиков. – Продайте мне этих умерших крепостных. Мы совершим купчую крепость, как если бы они были живые, и я избавлю вас от хлопот и платежа.
Помещики рады были продать мертвые души, а некоторые – и подарить их Павлу Ивановичу.
Чичиков оформлял одну купчую крепость за другой, и по городу начинали расползаться слухи о его несметных богатствах: его считали миллионером.
До сих пор, – пишет Гоголь, – все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но, с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», – не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, – словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами; однако же в многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины: что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человека.
В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материй, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшейся высокою, пошли вдруг в ход и были раскуплены нарасхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он
нашел на столе у себя письмо; откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать; трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!»
На самом деле у Чичикова было всего двое крепостных – если говорить о живых – Селифан и Петрушка. А покупкой мертвых душ он занялся потому, что прослышал о кампании по заселению необжитых территорий и о том, что государство поощряет помещиков, готовых перевезти крестьян на целинные земли. Чичиков рассчитывал на солидную ссуду от государства на выгодных условиях, став на бумаге владельцем сотен крестьян и получив в собственность землю.
И знаете, что еще удивительно в этой необыкновенной поэме в прозе? Тот факт, что господин Чичиков, «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод», этот ничем не примечательный чиновник и заурядный мошенник – самый положительный персонаж романа.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе