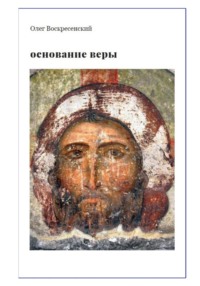Читать книгу: «ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ. Опыт русского православного миссионера из Америки», страница 2
Итак, разумное основание?
Разумным и научным основаниям веры в этом ряду отводится своя, не исключительная, но очень важная роль – представления и рассмотрения свидетельств, с одной стороны, внутренней логической непротиворечивости религиозного взгляда на мир и человека и, с другой, соответствия религиозного знания (того, что человечество знает о Боге) самым современным научным представлениям и открытиям. Понятно, что доказывать бытие Божие подобно теореме Пифагора невозможно и бессмысленно, но, с другой стороны, совершать свой жизненный выбор, посвящая всего себя Богу или отвергая Его, не потрудившись ознакомиться с накопленным наукой знанием о Нём – ещё более неразумно и неосмотрительно. К сожалению, слишком часто приходится иметь дело именно с таким, вполне предрассудочным, представлением о вере, о душе и, вообще, о духовном мире, как о чём-то либо сугубо личном и интуитивном, либо заведомо алогичном и бесформенном. И это – несмотря на то, что множество деятелей науки, которых трудно заподозрить в нелогичности и необъективности, на протяжении всей истории человечества оставляли и оставляют по себе ярчайшие и подробнейшие свидетельства своей веры. Значительная часть сочинений сэра Исаака Ньютона, например, состоит из богословских (78 текстов) наряду с естественно-научными (86 текстов), алхимическими (70 текстов) и математическими (94 текста) трудами7. Очевидно, научный и математический склад ума нисколько не мешал великому учёному подвергать исследованию и свой собственный религиозный опыт, и накопленное человечеством богатство богословского знания. «Чёткое разделение между наукой и религией не было характерно для XVII–XVIII вв. Собственно, для Ньютона эти две сферы исследования были двумя частями единого взгляда на мир, и, в частности, изучение Священного Писания было разновидностью научного постижения законов природы, а также событий будущего», – пишет М. Леви-Рубин, сотрудник Национальной библиотеки Израиля, куда были переданы богословские труды Ньютона8.
Некоторые из учёных, собственно, и пришли к вере в Бога этим вполне рациональным путём, однажды составив себе труд ознакомиться с естественно-научными и научно-историческими свидетельствами и подвергнув их при этом всему тому спектру исследовательских методов, которыми они с успехом пользовались в своей научной деятельности. Не без удивления некоторые из них при этом обнаружили, что таковые свидетельства, во-первых, на самом деле существуют; во-вторых, существуют в великом множестве; в-третьих, нисколько не противоречат ни друг другу, ни всему остальному их научному опыту и, наконец, что их собственное неверие зиждилось не столько на знакомстве с этими аргументами, сколько на заведомом и вполне предрассудочном их отвержении. Не случайно, свидетельства, по крайней мере, двух из них, историка литературы Клайва Льюиса и доктора биологических наук Дона Байерли, прошедших именно этим путём от скептического отношения к вере в Бога к принятию Его всем своим сердцем, умом и волей, носят схожее и довольно характерное название: «Настигнут радостью» у К. Льюиса и «Настигнут верой» у Д. Байерли9 или, соответственно, “Surprised by Joy” и “Surprised by Faith” по-английски. Вот как описывает К. Льюис тот «сюрприз», который преподнесло ему усердное изучение свидетельств в пользу достоверности Евангельской истории: «И вот ночь за ночью я сижу у себя, в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается Тот, встречи с Кем я так хотел избежать. И все-таки то, чего я так страшился, наконец, свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнёс молитву. В ту ночь, верно, я был самым упрямым и угрюмым из всех неофитов Англии».10 Профессор средневековой литературы Оксфордского Университета, как честный человек и джентльмен, был вынужден признать, что из года в год он учил своих студентов по источникам, бесконечно менее надёжным, чем Евангелие, которое он отвергал из-за его, якобы, «исторической несостоятельности». Клайву Льюису это признание далось непросто, но честный учёный должен оставаться учёным, даже если это подчас неудобно и неприятно, и даже если это вызывает неловкость в общении с родственниками, друзьями или коллегами.
Весь спектр современных представлений о месте разумного основания веры в Божественное и сверхъестественное можно было бы представить в виде некоей протяжённости, континуума, в одной оконечности которой находится вполне расхожее мнение о том, что религиозная вера является ни чем иным, как формой безумия.

Вот, говорят, когда у человека в силу каких-то случившихся с ним внешних потрясений или внутренних переживаний, совсем отказывают мозги, тогда и начинает ему всюду мерещиться чудесное, духовное и сверхъестественное. Это, понятно – крайнее, но, увы, весьма распространённое в наш рационалистический век представление, отказывающее верующему человеку вообще в какой-либо способности адекватно воспринимать и осмысливать происходящее с ним и в мире вокруг него.
Следующим на нашей протяжённости окажется суеверие – представление о том, что что-то такое непонятное и необъяснимое в мире присутствует и действует, но никакого сколько-нибудь адекватного знания об этой, по определению, загадочной силе человек обрести не может. Всё, что мы в состоянии сделать, – это приспособиться к ней. Вот, допустим, перебежала нам дорогу чёрная кошка, и дальше этим путём идти уже нельзя. Почему? Не известно. Да и не важно. Главное – не идти. Или, чтобы затеянное нами предприятие, наоборот, развивалось в благоприятном направлении, надо всего-навсего постучать по деревянному. Почему по деревянному? Фольклористы и этнографы нам с удовольствием предложат самые различные и более или менее правдоподобные версии происхождения этого поверия, но ведь дело как раз в том, что это неважно – лишь бы «сработало».
Далее по континууму следует представление о таинстве, о таи́нственности, мистичности мира внутреннего и мира, нас окружающего. Оно исходит из допущения, что не всё в нашем опыте непременно подлежит анализу и осмыслению, и какая-то его часть по самой своей природе таинственна и непознаваема. Сколько бы мы ни изучали, ни испытывали, ни анализировали и ни обобщали некоторые события нашей жизни, переживания и впечатления, самое важное в них так и останется неразгаданным. Изучать, испытывать, анализировать и обобщать его мы, впрочем, вполне можем и к своей, и ко всеобщей пользе, ибо приобщение к этому мистическому опыту не только обогащает наше собственное бытие этим важнейшим её аспектом, но и позволяет нам более полно и осмысленно участвовать в жизни не мистической, а вполне физической11.
С этим представлением, вполне естественно, граничит и убеждение не только в возможности, но и в необходимости разумного отношения к миру сверхразумного и сверхъестественного. Мощным мыслительным аппаратом мы были награждены Богом-Творцом именно для того, чтобы наша духовная жизнь, наши отношения с Ним и наш опыт общения с Ним были полноценными и вполне удовлетворяли и Его, и нас самих. Вопреки расхожему представлению о том, что, приступая к молитве, входя в церковь или приобщаясь к церковными таинствам, надо по возможности отключить сознание и вообще угасить в себе всякое движение мысли (так иногда и понимается «всякое ныне житейское отложим попечение» из Херувимской песни на Божественной Литургии), разумное представление о вере требует как раз прямо противоположного: наивысшей концентрации всего нашего внимания на том, что именно происходит в «момент чуда». Эмоциональное, интуитивное и собственно мистическое восприятие Божественного, таким образом, не умаляется, но исполняется и совершается в осмысленном приобщении к таинству.12
* * *
К великому сожалению, в современной литургической практике русской православной церкви принят по большей части невразумительный для современного носителя русского языка церковнославянский, весьма затрудняющий полноценное участие верующего в богослужении. Иллюзия его понятности, возникающая вследствие исторической родственности этих языков, только усугубляет путаницу и приводит к порой смехотворным, но преимущественно печальным недоразумениям. Характерные и часто встречающиеся примеры такого псевдопонимания приводит филолог и поэт О. Седакова: «…”двойные” слова, входящие и в русский, и в церковнославянский, чаще всего и затрудняют понимание церковнославянских текстов. Здесь человек уверен, что ему всё понятно: ведь это слово – скажем, “губительный” – он прекрасно знает! Слово “гобзует” он посмотрит в словаре – но зачем узнавать там значение “губительства”? А слово это означает эпидемию, заразный недуг».13 Богослужение и молитва на родном, понятном и вразумительном языке раскрывают перед их участником смысл и содержание таинства, подлежащие и доступные осмыслению.
Для меня лично, признаюсь, старославянский язык богослужений долго оставался камнем преткновения. По разным поводам и случаям я довольно часто захаживал в православные храмы – профессия экскурсовода по московскому Кремлю, по Москве, Владимиру и Суздалю, которой я отдал счастливейшие годы своей молодости, практически обязывала меня к этому. Приглядываясь и прислушиваясь к происходящему во время богослужений, я, однако, никак не мог взять в толк, почему и зачем их тексты читаются и поются в русских храмах… на иностранном языке. О том, что это язык, с одной стороны, родственный, а, с другой – всё-таки совершенно самостоятельный, я отлично помнил по учёбе на филфаке, где несколько семестров были целиком посвящены его изучению: лексике, морфологии, синтаксису, стилистике и т. д. Неужели, думалось мне, все эти милые бабуленьки – сплошь филологи и лингвисты, колющие, как орехи, причудливые парадигмы старославянских склонений и спряжений, на заучивание которых я потратил столько бессонных ночей? Беглый выборочный опрос прихожан, впрочем, довольно скоро рассеивал эти мои опасения – большинство из них понятия не имело о прямом и даже символическом смысле только что прочтённого, услышанного или пропетого. Меньшинство по ключевым словам догадывалось о значении отдельных фраз, но и они к моему интересу относились в лучшем случае неодобрительно, а в худшем – подозревали во мне провокатора-протестанта или агента КГБ, о чём мне когда-то прямо сказал один сельский батюшка, к которому я обратился за разъяснениями: «Я же вас не знаю, а вдруг вы – подосланный, и потом мне же за вас достанется за религиозную пропаганду». Эти страхи, хочется верить, отошли в прошлое, но ни времени, ни места для подробного, систематического и толкового разъяснения прихожанам звучащего в храме по-прежнему не находится. Исключение, насколько мне известно, во всей стране представляют собой лишь несколько православных общин, перешедших на русскоязычное богослужение. Волею всеблагого Провидения я однажды оказался в одной из них и именно в тот момент, когда академик С. С. Аверинцев (для меня, филолога, фигура, принадлежащая скорее Пантеону, чем подмосковной церквушке) читал там за богослужением, если мне не изменяет память, Псалмы в своём собственном переводе на русский. Этот опыт вразумительного чтения и пения, понятно, обусловил возможность задавать вполне конкретные вопросы, касающиеся смысла и содержания веры, богослужения и благочестия по окончании службы или в специально отведённое для этого время. Ни таинственности, ни мистичности, ни благоговейности церковной службы от этого не убавилось, и даже напротив: чем больше я узнавал о вере, тем яснее понимал, насколько глубока Божественная тайна, уже не путая с ней ни свою собственную неосведомлённость, ни чьё-то невнятное пение или слишком поспешное чтение богослужебное текстов.
* * *
Злоупотребление разумом (следующее деление на нашей протяжённости), называемое рационализмом, исходит из того, что всякую мистичность и таинственность нашего опыта следует развеять усердным его исследованием. То, что нам сегодня представляется чудесным, развитие научного знания рано или поздно развенчает и, следовательно, называть его надлежит не «чудесным», а всего лишь неизвестным или малоизученным. На этом же представлении в основе своей покоится, между прочим, и классический дарвинизм, исходящий из того, что «переходные формы», необходимые для доказательства верности этой теории, рано или поздно обнаружит наука, и совершенно необъяснимое на сегодняшний день без участия Творца происхождение видов непременно будет, таким образом, разъяснено.14
Это крайне рационалистическое представление в своей конечной форме вовсе отрицает способность человека к осмыслению мира (как физического, так и метафизического), ибо и она, в конце концов, сводится к сложнейшему, но со временем вполне подлежащему научному описанию комплексу био- и электрохимических процессов, происходящих, как любят говорить школьники, в пространстве между двумя ушами. Весь религиозный и мистический опыт человечества, согласно этому «натуралистическому детерминизму», рассматривается лишь как некая причудливая «функция головного мозга». Это нейроны у человека в голове выстреливают, а ему при этом лишь кажется, что он испытывает какие-то чувства, любит, страдает, размышляет и т. д. Впрочем, и то, что это человеку кажется, ему, на самом-то деле, тоже лишь кажется. Другими словами, это, по сути дела, то же безумие – отказ в способности человека к осмыслению мира – которое уже было рассмотрено нами в самом начале нашей протяжённости. Эти крайности, как и большинство из них в жизни, оказываются не полезными и не продуктивными, и мы прибегнем к более взвешенному представлению о вере – как о таинстве, данном человеку, и, в меру его интеллектуальной способности, доступном его разумному освоению и применению к своему житию-бытию. Но будем помнить, что разумное основание веры ни в коем случае не является ни единственным, ни даже самым важным, ибо и разум сам по себе – без опыта, эмоционального и духовного переживания – может увести пытливый ум весьма далеко от истины.15
И, наконец, самый яркий и наглядный пример разумного основания веры – это, безусловно, история одного из первоапостолов по имени Фома, которого народная традиция совершенно несправедливо окрестила Фомой Неверующим. Ну, почему же? Вполне верующий и в Бога Творца, и во Иисуса Христа был человек, однако ему, в силу его особо пытливого склада ума и характера (как мы бы теперь сказали, аналитического, левополушарного мышления) рассказов других апостолов о том, что Христос, дескать, воскрес из мёртвых, оказалось недостаточно. Мало ли, что люди рассказывают! Ему, чтобы поверить в то, что перед ним – тот самый Христос, Которого он несколькими днями ранее своими глазами видел распятым на кресте, понадобились свидетельства, факты, и, так сказать, вещественные доказательства. Как мы помним из рассказа об этом событии, приведённом в Ин. 20:26–29, Спаситель благословил его на это, позволив вложить перст свой в раны на руках и руку – в рёбра Его. Евангелист, правда, умалчивает о том, воспользовался ли апостол Фома этим благословением, но важно уже и то, что он его получил. Представленное ему свидетельство стало решающим в жизни апостола, провозгласившего на его основании Христа своим Господом и Богом! Нам, живущим два тысячелетия спустя, не увидеть этих ран и не вложить в них своего перста. К нам обращены слова Спасителя: «Ты [Фома] поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие». Всё, что мы можем сделать, чтобы убедиться в истинности Христова Воскресения, – это ознакомиться со свидетельством достоверности тех «носителей», в которых оно описано, то есть, во-первых, убедиться в том, что события описаны правдиво и без упущений, и, во-вторых, что эта описание дошло до нас без искажений и потерь. Не случайно в православной традиции это событие прославляется как «доброе неверие Фомино», ибо, следуя его примеру, «сердца верных приводятся в познание» Бога.16
А как же все иные мировоззрения?
Но почему же непременно Фома, Евангелие и Христос? Разве иные религии чем-то хуже? Ведь есть и подревнее, есть и, наоборот, посовременнее, чем христианство? Да и вообще, разве так уж необходимо верить хоть в какого-то одного из богов? На этот последний вопрос, наверное, ответить проще всего: да, кого-то или что-то человек неизбежно делает своим божеством, то есть тем первоисточником, в котором он находит ответы на самые главные вопросы своей жизни – о её происхождении, предназначении, смысле и содержании. Кто-то своим богом – центром вселенной и мерилом добра и зла – полагает самого себя. Понятно, что и сам такой человек довольно скоро обнаруживает себя в полном одиночестве, и окружающим от него оказывается несладко, ибо сколько-нибудь удовлетворительного ответа на вопрос о ценности и предназначении человеческой жизни такая позиция может дать лишь очень ограниченному уму и лишь на очень ограниченное время. Да, конечно, из классической пьесы М. Горького «На дне» мы помним, что «человек – это звучит гордо», но не следует забывать и о том, чем кончается эта самая гордость человеческая «в отдельно взятой стране», где жизни десятков миллионов этих самых человеков обессмысливались, обесценивались и уничтожались во имя… человека. Да и сам автор этого гордого заявления в другие времена пел совсем другие песни.17
Для кого-то таким Божественным началом становится «Матушка-природа», которой при этом последовательно приписываются вполне божественные качества – всемогущество (всё происходит по воле природы), всеведение (всё происходит по законам природы, которые, следовательно, ей известны), вездесущесть (всё в нас и вокруг нас – природные явления) – за исключением разве что всеблагости и милости, которой, как известно, от природы ждать не приходится18. В этой картине мира, порождённого Матушкой-природой и Дедушкой-Биг-Бэнгом 13,7 миллиардов лет тому назад и с тех пор стремительно разлетающегося во все стороны, жизнь отдельного человека представляется микроскопической песчинкой, никакого особенного смысла, ценности и значения, очевидно, не имеющей.19
Кто-то впадает в «науковерие» (иначе, сайентизм), находя в современном и, согласимся, весьма впечатляющем развитии естественнонаучного знания и технологии потенциал как для объяснения прошлого и настоящего, так и для удовлетворения будущих чаяний человечества. В этом увлечении, впрочем, нет ничего нового, ибо около трёхсот лет назад западная цивилизация уже испытала подобный всплеск энтузиазма по поводу науки, технологии и всеобщего «просвещения», апогеем которого стала Французская революция, плавно, но закономерно, перетёкшая в эпоху жесточайших репрессий. Жизнь человеческая, подчинённая прогрессу, всеобщему равенству и братству или каким угодно ещё привлекательным идеям и лозунгам, неминуемо оказывается той разменной монетой, которой щедро оплачивается стремление к их достижению. Современное науковерие, низводя человеческое мышление, наши чувства и переживания к случайно возникшей и спонтанно развившейся биохимии и биоэлектронике мозга, впрочем, и не обещает человеку сколько-нибудь счастливого настоящего и, тем более, будущего. «Ни предназначения, ни смысла, ни зла, ни добра, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия», – подводит итог извечным исканиям человечества оксфордский профессор этологии (подраздел биологии, изучающий поведение животных) и апологет безбожия доктор Ричард Докинз.20

Пушкин А. С. В. Матэ. Гравюра 1899 г.

Митрополит Филарет. И. П. Пожалостин. Гравюра 1883 г.
Зачем я живу?
Впрочем, и наш собственный, великий русский писатель и мыслитель, граф Лев Николаевич Толстой, в пятидесятилетнем возрасте задавшись вопросом о смысле и предназначении своей жизни и не найдя на него удовлетворительного ответа, оказался на грани самоубийства: «Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привёл меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребёнка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: "Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?" Иначе выраженный, вопрос будет такой: "Зачем же мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?" Ещё иначе выразить вопрос можно так: "Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?"21 Не только простые смертные, но, как мы видим, и величайшие умы человечества задаются этим же вопросом – о предназначении своей жизни – и при этом оказываются не в состоянии сколь-нибудь удовлетворительно на него самим себе ответить в пределах чисто материалистического представления о человеческой личности. Человеку трудно жить, если он не видит смысла жизни. Причём, не только «гуманитариям» – философам, писателям и психологам – свойственно задаваться этими вопросами. Основоположник космонавтики, К. Э. Циолковский, вполне технического ума человек, свои космические технологии разрабатывал, однако, движимый всё тем же вопросом – о смысле человеческого бытия: «Как только вы зададите себе вопрос такого рода, значит, вы вырвались из традиционных тисков и взмыли в бесконечные выси: зачем всё это – зачем существуют материя, растения, животные, человек и его мозг – тоже материя, – требующий ответа на вопрос: зачем всё это? Зачем существует мир, Вселенная, Космос? Зачем?»22
Понятно, что каждый день мы этот вопрос себе не ставим, ибо жизнь щедро снабжает нас на каждый-то день вопросами помельче. Однако в кризисные минуты нашей жизни (от греч. κρίση – суд, решение, выбор), когда от нашего выбора многое зависит – наше благополучие или жизнь близкого нам человека – этот вопрос становится, что называется, ребром: чего ради я хлопочу и переживаю, чего-то опасаюсь и чему-то радуюсь, если всем моим хлопотам, переживаниям, опасениям и радостям рано или поздно придёт конец? То есть, если каждое моё отдельное решение преследует определённую цель (простейшие примеры: заработать деньги, чтобы отдохнуть с семьёй на море, или выпить таблетку, чтобы прошла головная боль), то ради какой цели я, вообще, живу на свете? Мой однокашник, автор «Книги о счастье», психолог и антрополог, основатель и ректор Института христианской психологии священник Андрей Лоргус напрямую связывает способность и желание человека радоваться жизни с осознанием её, во-первых, вечности и, во-вторых, смысла. «Я не знаю, что такое счастье, но я знаю счастливых людей. И я знаю, что каждый человек может быть счастлив. Это в его власти. Это в его воле. Конечно, тут важно условие, но главное условие это – победа над смертью. Если он уверен в том, что смерти нет, он может быть счастлив. Это освобождает его от страха. Но есть ещё одно условие счастья. Для человека это очень важно. Человек – это существо, уязвлённое смыслом. Если человек не видит смысла в своей жизни, ему трудно быть счастливым».23
В день своего рождения – тоже, своего рода, «кризисная минута» – А. С. Пушкин написал следующие горькие строки, размышляя о смысле своей жизни:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.24
Может быть, однако, не всё так печально и безнадёжно, если вспомнить, что это пушкинское стихотворение не осталось без ответа. Ему ответил его современник митрополит Московский Филарет (Дроздов)25 и тоже стихотворением, но которое, к сожалению, гораздо реже цитируется:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждится Тобою
Сердце чисто, светел ум!26
То есть не всё так беспросветно и грустно, если вспомнить, что, помимо этого конечного мира и вне его, существует бесконечный Бог, Который и этот мир, и каждого в этом мире человека сотворил по Своему особому, индивидуальному, совершенному, Божественному замыслу. Смысл и предназначение своей жизни человек, следовательно, обретает в исполнении этого Божественного замысла, а в приведении своей воли в соответствие с Божественной волей – средства к достижению этой цели.27 Ведь, если жизнь человека не «случайность», а реализация уже имеющегося и притом совершенного плана, то ведь и ресурсов, и средств на его реализацию должно оказаться в Божественном замысле вполне достаточно. Итальянцы так и говорят: «Когда Бог создавал время, Он создал его достаточно». Стало быть, если и когда нам не хватает времени, это – верный признак того, что мы тратим его на что-то не вполне соответствующее Божией воле, поскольку на следование ей Он создал его …в самый раз. И, с другой стороны, если, как это весьма часто приходится слышать, человек не вполне уверен, в чём, собственно, состоит Божественный замысел в отношении некоего конкретного этапа, шага или решения в его жизни, то стоит ему повнимательнее присмотреться, на что он тратит своё время и на что его в итоге не хватает, и становится, как Божий день, очевидным, где его собственные приоритеты расходятся с Божественными.
* * *
«Стоп, стоп, стоп! – скажут при этом скептики. – А не принимаем ли мы желаемое за действительное? Ведь может же быть, что это нам только хочется, чтобы наша жизнь обладала предназначением – вот мы и воображаем себе некоего Бога, Который бы придал ей хоть какой-то смысл». Д-р Энтони Флю, долгое время носивший, как ему казалось, почётное звание «самого яростного атеиста планеты» и преподававший философию религии в Редингском университете Англии, рассказывал по этому поводу притчу о неких двух исследователях, вышедших однажды из лесу на полянку и обнаруживших на ней красивейший и тщательно ухоженный садик – грядки, клумбочки, тропинки. Один из них тут же радостно воскликнул:
– Если есть садик, значит, должен же быть и садовник, который его насадил, и который за ним ухаживает!
Стали звать садовника, искать садовника – не появляется садовник и даже не откликается.
– Ну и где же твой «садовник»? – усомнился другой, не верующий в садовника, учёный.
– А это… невидимый садовник, по ночам приходящий в свой сад и ухаживающий за ним, – тут же нашёлся верующий в садовника.
Тогда неверующий в садовника учёный обнёс садик забором, провёл электричество, сигнализацию и даже установил камеры наблюдения, чтобы обнаружить хоть какие-то следы загадочного садовника. Увы, никаких свидетельств его присутствия так и не было зарегистрировано самой совершенной и чувствительной аппаратурой.
– Так ведь это же – невидимый, неслышимый, неощутимый и нечувствительный к электричеству садовник, – оправдывался верующий в садовника, но, понятно, тут уже скептик не выдержал:
– Что же осталось от твоего садовника? И чем этот твой невидимый, неощутимый, абсолютно неуловимый для восприятия садовник отличается от садовника воображаемого, и, следовательно, от садовника, не существующего вовсе?
То есть, по мнению учёного, если Садовник, насадивший этот замечательный сад и поселивший нас в этом саду, не оставил по Себе никаких следов Своего бытия и Своего участия в жизни мира, то чем Он, вообще говоря, отличается от садовника воображаемого?
Надо сказать, что сам доктор Флю, будучи учёным честным и последовательным, в конце своей жизни всё же пришёл к вере в Бога28, так что с ним, по большому счёту, всё в порядке, но в бытность свою богоборцем он любил рассказывать эту притчу. Ведь и в самом деле, коли своим происхождением и самим своим существованием этот мир обязан Богу Творцу, то должны же отразиться и сохраниться в человеческом историческом опыте хоть какие-то следы бытия и участия в его бытии Великого Садовника? Поиску и рассмотрению некоторых из этих свидетельств и будет посвящена большая часть этой книги.
* * *
Если мы что-то или кого-то ищем, то хорошо бы нам по возможности ясно себе представлять, кого именно мы ищем. Должны же быть какие-то его качества и признаки, по которым мы его узнаем, если встретим. Статистически, почти 90 % населения планеты верит в Бога29, то есть, так или иначе представляет себе некую «высшую силу», «превосходящую субстанцию» или «верховное божественное», словом, верит в нечто, отвечающее на вопрос о смысле жизни. Надо сказать, что Россия в этом смысле далеко не на первом месте. Согласно проведённому 2011 году Левада Центром опросу россиян на предмет их религиозной принадлежности, 84 % из них на тот момент полагали себя людьми православными, но вот на вопрос о вере в Бога (даже не во Христа, но хоть в какого-нибудь бога) положительно ответили лишь 39 %. Интересное у нас в стране сложилось православие – наполовину без веры в Бога. Однако «в среднем по планете» картина складывается гораздо более благополучная, хотя, как мы видим из многообразия существующих на Земле вероучений, мнения о том, какими свойствами вышеупомянутое «божественное» может обладать, разнятся весьма значительно. Это и понятно, поскольку таковых свойств, качеств и черт характера у искомого нами Бога, и в самом деле, может быть множество, однако двумя свойствами Бог обладать должен, ибо они так и называются – «необходимыми свойствами». Конечно, «должен» не в том смысле, что кому-то из нас Он что-то должен, а в том, что эти Его свойства нам самим необходимы, чтобы признать Его Божеством. Их сформулировал в середине XX века американский философ и богослов Фрэнсис Шеффер как (1) «бесконечность» и (2) «личность»30, а примерно за полстолетия до него – наш русский философ и богослов Владимир Соловьёв, писавший: «Итак, разум истории по самому её фактическому ходу заставляет нас признать в Иисусе Христе не последнее слово царства человечества, а первое и всеединое Слово Царства Божия – не человекобога, а Богочеловека, или (1) безусловную (2) индивидуальность».31
В общении с человеком неверующим это бывает особенно важно – помочь ему найти и сформулировать для себя самого те условия, на которых он согласился бы с бытием Божиим. Спора и взаимного неприятия, возникающих зачастую при столкновении различных и, тем более, противоположных точек зрения на этот предмет, как правило, удаётся избежать, если изначально не ставить себя и, соответственно, других участников общения в отношения противников и антагонистов, которые почти инстинктивно вызывают у большинства людей настороженность и отчуждение. Предложение же им совместного поиска пути к разрешению интересующего нас вопроса способно, во-первых, снять лишнее напряжение и, во-вторых, принципиально поменять расстановку сил: не один – против другого, но оба вместе – против предмета противоречий и раздора. Вместо спора о бытии или небытии Бога, неверу предлагается заняться гораздо более продуктивной задачей: сформулировать такой аргумент или такое свидетельство, которые, если бы они нашлись, смогли бы его переубедить. «Диалогическая апологетика» – так назвал свою книгу один из моих семинарских профессоров д-р Давид Кларк, посвятив её динамике живого общения на тему веры и неверия. Согласно его многолетнему опыту и исследованиям, «защита веры обычно происходит посреди реальных жизненных обстоятельств, а не на официальных форумах, и <…> христианская апологетика может быть интегрирована в живую личную беседу».32
Митрополиту Московскому Филарету Пушкин посвятил написанные полгода спустя (19 января 1930 года) знаменитые «Стансы»:
В часы забав иль праздной скуки,Бывало, лире я моейВверял изнеженные звукиБезумства, лени и страстей.Но и тогда струны лукавойНевольно звон я прерывал,Когда твой голос величавыйМеня внезапно поражал,Я лил потоки слез нежданных,И ранам совести моейТвоих речей благоуханныхОтраден чистый был елей.И ныне с высоты духовнойМне руку простираешь ты,И силой кроткой и любовнойСмиряешь буйные мечты.Твоим огнем душа палимаОтвергла мрак земных сует,И внемлет арфе СерафимаВ священном ужасе поэт.
[Закрыть]
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе