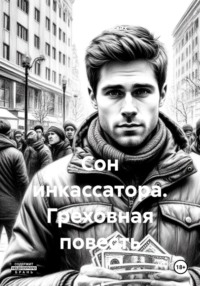Читать книгу: «Сон инкассатора. Греховная повесть»
Эпиграф…
Соблазнам не умея возражать,
Я все же твердой линии держусь;
Греха мне все равно не избежать,
Так я им заодно и наслажусь.
Игорь Губерман
Предисловие
Наверное, у каждого человека есть понимание о плохом и хорошем. Совершая те или иные поступки мыслящий человек, отдаёт себе отчёт о верности в принятом решении и о последствиях возникающих по воплощению содеянного им.
С раннего возраста, общество готовит нас к принятию верных решений (не буду вдаваться в описания моральных качеств тех или иных обществ). Внедряя, путём различных методов, в наше сознание, основные параметры понятия о – «Верном» и «Неверном», «Плохом» и «Хорошим», «Греховном» и «Праведном».
Одна из исследовательских групп, специализирующаяся на изучении проблем социализации бывших заключенных, в своём опросе попросила дать определение понятию «Греха». Оказалось, что современное общество не в состоянии это сделать. На примитивном уровне люди, конечно, понимают, что одно решение – верное, а другое – нет, но дать точный ответ, «грешники» ли люди принимающие эти решения, и в чём именно их «греховность» опрошенные так и не смогли.
В современном мире мы наблюдаем огромное множество культур, основанных как на исторических, так и ново приобретаемых, внедрённых понятиях морали. Каждый социум по-своему трактует понятие «Грех», «Греховность».
С религиозной точки зрения «Грех» – действие или бездействие, а так же помыслы – идущие в разрез, отвергающие принятые на основе церковных законов нормы человеческого бытия. В миру, понятие «Греха» может обозначать действия, нарушающие общественные устои и этический уклад, обусловленный принятыми законами, культурными традициями, географическим положением.
Общество, законопослушные граждане, члены религиозных общин, территориальных групп зачастую по-разному, порой диаметрально противоположно, понимают для себя основные законы морали, но каждый участник желает следовать им, в соответствии собственными мыслями, а также с понятиями той стороны, в которой данный человек находится.
Размеры – этой стороны могут быть любыми: от точного места, где родился и вырос до страны, сообщества, членом которого человек себя считает. Мульти культурность, транс-национальность, разность религий, а так же само значение Стороны – обусловлены не только историческим, родовым или клановым контекстом, но и глубокой эмоциональной привязанностью к своей Родине, Отчизне. Любви к Ней.
Глава первая
«Казанцев и Родина»
Казанцев не питал любви к своей отчизне. Именно так, с маленькой буквы "о". Он никогда не чувствовал ни эмоциональной, ни исторической, и уж тем более, культурной связи с тем местом, даже захолустьем, как он сам считал, где прошло его детство, юность и зрелые годы. Родовой дом, построенный его родителями, где сорок шесть лет назад родился Сергей Сергеевич Казанцев, не оставил в его сердце ни тепла домашнего очага, ни эха родных голосов, ни тех запахов, что обычно хранятся в домах, словно букеты духов, собранные из всего, что окружает живущих там людей. От запаха недельных щей до терпкого, всегда узнаваемого аромата одеколона "One Man Show Jacques Bogart".
О да, этот аромат для мужчин, принадлежащий к шипровой группе, столь популярной в нашей стране, был создан парфюмером Роже Пеллегрино.
Верхние ноты: тмин, гальбанум, базилик, бергамот и розовое дерево. Ноты сердца: лабданум, мускатный орех, специи, артемизия, гвоздика, пачули, жасмин, ветивер, роза, сосновые иглы и герань.
Ноты базы: кожа, кастореум, бобы тонка, амбра, кокос, ваниль, дубовый мох, белый кедр, стиракс и сандал.
Все эти компоненты (в особенности – щи), словно отпечатались на стенах, мебели, вещах и даже на самих обитателях дома, представляя собой продолжение генетического кода рода, но так и не были восприняты главным героем.
***
Родители Казанцева, рождённые глубоко в Союзе благодаря очередной комсомольской стройке, вырвались из глубин сельского хозяйства и, получив на руки столь вожделенный паспорт, окунулись в горячий процесс производства синтетического каучука, выполняя и перевыполняя коммунистический план очередной трудовой пятилетки на построенном ими же заводе.
В годы их молодости Номск, бывший захолустный городок, известный лишь своей пересыльной тюрьмой, превратился в огромный промышленный центр. Подобно гигантскому кракену, город пустил сети дорог, соединив все сферы жизни Номска: промышленность, культуру, социальную сферу и управление. К историческому центру города за три ударные пятилетки добавилось пять новых районов. Новые поселения, сформированные вокруг работы и социальных нужд, строились с невероятной быстротой.
Работники селились рядом со своими предприятиями, ориентируясь на близость к рабочему месту. Даже нумерация домов в рабочих районах велась не от центра, а от ближайшего завода или фабрики.
В одном из домов, расположенных вблизи промышленной зоны, на границе Первомайского и Советского районов, фактически на окраине Номска, по адресу Заозерная, 2, родился Сергей Сергеевич Казанцев. Он был единственным ребенком у пары, строивших коммунизм, передовых рабочих и молодых горожан, которым посчастливилось получить новую двухкомнатную квартиру серии II-57.
Эти типовые панельные дома, возведенные в период второй волны индустриализации (1957—1970 годы), образовывали прямоугольные микрорайоны. Их объединяла однообразная серая придомовая территория с огороженными металлическими заборами, окрашенными в серебристый цвет детским садом, школой и газгольдером.
***
Казанцев гордился собой. Огромная, всеобъемлющая любовь к самому себе, взращенная ежесекундным самоконтролем и самолюбованием, в сочетании с пренебрежительным и тщательно скрываемым презрительным отношением к нормам морали, культурным ценностям и представлениям о благопристойности, а также отрицательным отношением к общепринятым нормам нравственности и официальным догмам, позволяла Сергею Сергеевичу плавно лавировать в потоке жизненных коллизий, ничем не обременяя, не беспокоя, не раздражая и не отвлекая от самого себя.
Он был прекрасно сложён. Подаренная родителями приземистая, с пропорциональными частями, среднерусская стать в сочетании с правильными, по-детски открытыми чертами лица, обрамлённым прямым ворсом светлых, почти белых волос, позволяла Казанцеву, не прилагая особых усилий, вливаться в любой коллектив и, что самое важное, комфортно располагаться в нём без каких-либо финансовых, эмоциональных и любых других затрат, только благодаря своей визуальной правильности и врождённой привлекательности.
С раннего возраста маленький Серёжа стал своего рода «красным знаменем» для всего семейного клана.
Волею судьбы единственный ребёнок, внук и наследник, Казанцев-младший с пелёнок стал смыслом жизни обоих семейных родов. Гипертрофированная, всепоглощающая любовь к единственному отпрыску, обожествление и поклонение ему неуклонно, день за днем, создавали из обычного окраинного мальчишки сказочного персонажа из произведения печально известного драматурга Оскара Уайльда «Звездный мальчик».
Быстро устав от количества и разнообразия игрушек, задаренный наследник Казанцевых, не имевший возможности общения со сверстниками в силу полной занятости собственного свободного времени стараниями старшего поколения (родителей, а также бабушек и дедушек) в приобщении ко всему прекрасному, был вынужден впитывать это прекрасное.
В какой-то момент дело дошло до похода в Номский драматический театр, расположенный в самом центре, на проспекте имени Великого Ленина.
Проспект Ленина Серёжу поразил с первой встречи.
Давным-давно проспект звался Черняшинским (в народе же его прозвали Няшинским). Название своё он получил от сквера, названного именем жены генерал-губернатора Няши. В Номск генерал-губернатор был прислан из столицы в возрасте 57 лет. Генерал был счастливо женат. Дуняша Феодоровна, которой только минуло 23 года (об этом Казанцев услышал гораздо позже), была скромна и красива. Ходило много слухов и сплетен, но люди приняли и полюбили Няшу (так её стали называть). Когда говорят о Няшинском проспекте, становится ясно, что речь идёт о городе Номске.
Наряду со старинными зданиями купцов и фабрикантов, воплотившими дух того прошедшего времени, маленький Серёжа видел и приметы современной эпохи. Несмотря на это, у мальчика выросло прекрасное чувство сопричастности к истории и огромное желание стать частью этого пространства.
Здание театра драмы стало настоящим шоком для маленького Казанцева. Театр восхищал своим неповторимым обликом, величием, непохожестью на серость и угловатую неряшливость собственного дома и всего, что окружало Серёжу до встречи с главной улицей его города. Проспект стал излюбленным местом Серёжиных прогулок с родителями, бабушками и дедушками, а позже повзрослевший Казанцев всё своё свободное время посвящал Няшинскому.
Вот и сейчас, спустя более 40 лет, он стоял в верхней точке проспекта, напротив величественного здания театра, со стороны музея имени Малевича, активно разминая суставы ног перед давно ставшей привычкой ежеутренней пробежкой.
Этот ритуал, а это был именно ритуал, Казанцев стал совершать на следующее утро после переезда с рабочей окраины города в самый его центр. Бесшумно ступая мягкой, пружинистой подошвой прекрасного образца спортивной обуви по серо-красным плитам старинного проспекта, Казанцев всеми клетками своего прекрасного организма ощущал безусловную правильность нахождения его на этой улице. Нет, он не пытался доказать правомерность своего присутствия ни этим глазам – витринам старинных особняков, ни ранним прохожим, застигнутым в предрассветный час суетной надобностью, ни надменным жильцам-старожилам, ревностно оберегающим покой «старого города» от навязчивости нуворишей.
Доказательства не требовались. Этот проспект был достоин его и его ритуала. В этом покоренном им месте силы Казанцев, как император-победитель, взирал на свои новые владения, каждый раз отмечая их величественную красоту и богатое убранство.
– Доброе утро, Сергей Сергеевич! – за спиной Казанцева послышался мягкий, вкрадчивый баритон.
Казанцев вздрогнул от неожиданности и обернулся.
– А, Владислав Борисович, это вы… Доброе, – буркнул Казанцев и протянул руку для пожатия.
Владислав Борисович был соседом Казанцева по лестничной площадке и время от времени составлял компанию Сергею в утренней пробежке. В. Б. Комиссаров был ровесником Казанцева, но стройный, одетый всегда в строгие классические костюмы от безупречных мастеров-модельеров всемирно почитаемых модных домов, господин (а то, что он был именно господином, у Казанцева не было никаких сомнений) Комиссаров вызывал у Сергея священный трепет. Казанцев не верил в бога, и этот трепет перед Владиславом Борисовичем был величиной абсолютной, совершенно очищенной от всяких религиозных моментов. При встрече с этим человеком Казанцев всегда ощущал беспомощность, как пожухлый осенний лист перед лицом стихии, при этом противостоять, преодолеть эту стихию, укротить природу этого трепета не мог. Казанцев как бы позволял ему возвышаться над собой, но не из-за страха, а в силу того, что чуял в этом человеке высшую силу. Владислав Борисович возглавлял отдел внутреннего контроля в самом главном управлении одной очень силовой службы.
– А, нам сегодня не по пути, – сказал Владислав Борисович, пожимая протянутую ладонь.
Казанцев равнодушно повел плечами и только сейчас обратил внимание на то, что стоящий перед ним Владислав Борисович одет в цивильное, а не в спортивный костюм.
– А, это вы куда так рано? – спросил он, не проявляя особой заинтересованности.
– Куда прикажут, – радушно ответил Владислав Борисович.
– Куда прикажут… Раннее совещание на службе, а такое прекрасное утро, жаль менять его на затхлость кабинета, – добавил он, медленно ступая к подъехавшему минутой ранее огромному служебному автомобилю, сверкающему даже в тусклых утренних зарницах медленно занимавшегося небесного пожара.
Чёрный внедорожник Комиссарова, как помпезный фиакр, плавно покатился по дороге вниз, спускаясь от драматического театра по утреннему пустому проспекту и увозя на раннее совещание стройного генерала-силовика с губернатором Номской губернии.
Казанцев взглядом проводил служебный «танк» Владислава Борисовича, быстро удалявшийся по своим генеральским делам, до того момента, когда плотная пелена тумана от остывшей за ночь реки не поглотила его бронированный корпус.
Узкий (по современным меркам) проспект был зажат с обеих сторон гранитным тротуаром, нагло втиснутым между проезжей частью и историческими фасадами двух-трёхэтажных зданий, служивших (так же, как и сейчас) своим владельцам как коммерческой, так и жилой недвижимостью. Редкие, отравленные выхлопом и реагентом деревца, как измученные дальним переходом в острог заключённые, сиротливо опирались на чернеющие урны городского хозяйства, явно сочетаясь с их цветом и видом ковки, цветом и ковкой собственных оградок.
Проспект вскоре упирался в чугунный мост через реку Номь. Река, как нагретая жаркими южными лучами змея, остывая, порывисто струилась, унося к скорому слиянию широкие тёмные омуты, подсвеченные новыми светодиодными фонарями с пустынной, окутанной ранним туманом набережной.
Вслед за исчезнувшим в этом мороке фиакром Казанцев побежал мерным, спортивным шагом, совершая последовательные движения, во время которых ноги бегуна как бы летят над поверхностью. Такой стиль назывался джоггингом. Этот стиль в беге отличается медленным темпом и специальной техникой, отточенной Казанцевым в ежедневных тренировках. При такой технике ноги и весь корпус находятся в достаточно расслабленном положении, а упругий толчок от поверхности отсутствует. Со стороны казалось, что упругое, спортивное тело атлета без каких-либо колебаний относительно поверхности бесшумно скользит вдоль по Няшинскому проспекту в предрассветной дымке слегка колышущегося пространства.
С первых же мгновений запущенного ритуала Казанцев ощутил неимоверный прилив энергии, хлынувшей в него, как электрический ток в новейший модный гаджет, преобразованный трансформатором из переменного в постоянный. Он ощутил себя древнегреческим полубогом, возвращающимся после совершенных подвигов в Олимпийский пантеон, как равный к равным. Казанцев летел, не касаясь земли, к дальней вершине, к горизонту, прочь от серости, однообразности, посредственности…
Конец первой главы.
***
Отступление первое
Как часто человек, как существо мыслящее, оценивает себя? Свои ожидания, возможности, способности. Существует ли шкала измерения собственных возможностей? Как корректно оценить величину собственного творческого, мыслительного потенциала, насколько высоко наше мнение о самих себе?
Раз за разом, при общении с близкими, друзьями или совершенно незнакомыми людьми, замечаю такие высказывания: «Да и я так смогу» или «Нарочно не придумаешь», «А что тут сложного?». Оценивая действия других, мы часто принижаем степень усилий, мастерство и необычность исполнения, совершенство и красоту произведений.
Многочисленные институты, призванные к изучению культурного наследия, убеждают нас в том, что способность к творчеству не есть нечто непостижимое, потрясающе непревзойденное или, если взглянуть глазами человека верующего, чудотворное, божественное.
В своих трудах «мудрейшие мужи» от современной науки объясняют нам, что:
– Мышление творцов неуемно в едином стремлении – использовать окружающую нас природу как сырье, как источник знаний, замечать и изучать свою жизнь и жизнь других людей, повсюду находя образцы для познания и неутомимо комбинируя полученные результаты, творить.
Любой человеческий труд включает в себя моменты творчества, будь то работа хирурга, строителя или учёного, но статуса «гения», «мастера» с большой буквы «М» удостоены лишь единицы из нас. Творцов, достигших вершин всеобщего признания, часто отмечают эпитетами – «божественный», «гениальный», «чудесный», выделяя их из общей массы людей.
«Мы говорим о гениальности только там, где действия крупного интеллекта нам особенно приятны и где мы не склонны чувствовать зависть, поощряя культ гения» Фридрих Ницше.
Обожествляя, наделяя чудесным даром творца, мы отдаляемся от «гения», переставая соперничать с его умением. Именно в этот момент нас одолевает: лицемерие, бессовестная ложь, лесть, зависть, хвастовство, желание и искание земных и суетных почестей, любовь к роскоши, лукавство, самооправдание, прекословие, унижение ближнего, переменчивость нрава, искание славы человеческой – всё то, что даёт возможность прорасти и не переставая подпитывает в нас тщеславие.
Глава вторая
Губернатор
В городе Номске всё было посредственным. Сделанное как бы походя, городское пространство не выделялось ни своим эстетическим, ни практическим значением. Наверное, поэтому вся зримая поверхность улиц, территорий и площадей была густо, в каком-то иррациональном количестве, завешана всевозможной рекламой. Как огромный промышленный холодильник на оптовом рыбном складе обклеен разноцветными стикерами с неимоверным количеством информации, понятной только самим составителям записей, так и город был плотно занавешен от его жителей разнокалиберной, цветной, неоновой липкой лентой, вне всякого стиля (каждый как смог).
Номск не стал знаменит ни учеными, ни художниками, ни артистами. В город с миллионным населением никогда не приезжали правители. Единственный новостной бум случился в начале 90-х, когда бывший президент СССР мимоходом заглянул в Номск, пытаясь собрать электорат перед выборами, а получил запланированную конкурентами в политической борьбе оплеуху.
Бессменному руководителю региона нравилась невидимость Номска. Легко и сытно жить в никому не заметном уголке.
– Доброе утро, Константин Леопольдович.
Кристина, молодая начинающая журналистка, только в этом году окончила факультет журналистики Номского государственного университета. Всего несколько дней назад Кристина прошла серьёзный отбор в только что образованный Губернский Государственный телевизионный канал, получивший 11-ю кнопку в сетке регионального вещания, что и определило его название.
Девушка считала зачисление в штат «11-го канала» большой удачей, и вот новая победа – большое интервью с руководителем региона.
– Ах, Кристиночка! Доброе утро, девочка.
Лежнев сам выбрал журналистку для своего интервью, опираясь исключительно на внешние данные и возраст Кристины, юную, пышущую здоровьем, как говорят, «кровь с молоком». Губернатору очень импонировало находиться рядом с молоденькими, красивыми девицами. Рядом с ними Константин Леопольдович расцветал, весело щебеча о разных пустяках, мимоходом отмечая стыдливую краску на нежных лицах юных красоток, ошалевших от «лихого» флирта престарелого ловеласа.
– Как твои успехи? Что нового на тернистой тропе современной журналистики?
Лежнев с удовольствием заметил сильное волнение, не позволявшее молодой журналистке вовремя реагировать на быстрые вопросы губернатора.
– Ну, ну, Кристиночка, давайте успокоимся. Я начну рассказывать, а вы записывайте.
Константин Леопольдович вызвал одного из своих секретарей, нажав нужную клавишу на старом, ещё докапиталистическом селекторе, и попросил тут же появившуюся в дверях девушку принести кофейный набор и пару бутылок минеральной воды.
– Вся эта затея с интервью, – вкрадчиво вещал губернатор,
– она связана с близким релизом моей книги. В следующем месяце она появится на полках, и нам с вами очень нужно постараться, чтобы привлечь внимание.
Лежнев немного подождал, дав девушке закончить начатый ею конспект, и, дважды кивнув головой, как бы убеждаясь в правильности своих слов, медленно продолжил:
– Нет, внимание не к моей книге, конечно, а к региону в целом. Рассказать зрителю о главных вехах развития региона, о его жизни, людях, планах.
Лежнев налил в небольшую чашку из тонкого фарфора горячий, благоухающий яркими, бодрящими красками свежезаваренный кофе и, придвинув её ближе к уже попривыкшей к давящей атмосфере девушке, продолжил:
– Пейте, красавица, и начнём.
***
Константин Леопольдович Лежнев родился в конце 40-х годов в привокзальном поселке Номска, в семье рабочего депо. По окончании средней школы работал помощником машиниста, но рано понял, что помощники в управлении чем бы то ни было обременены тяжелыми обязанностями и несправедливо обделены при разделе и без того невеликих благ. Учиться, учиться и еще раз… Правильно.
Быстро проинспектировав возможности, Лежнев по комсомольской путевке (в то время страна бурно осваивала целинные земли) поступил в сельскохозяйственный институт, по окончании которого и был отправлен в управление треста «Целинкрайводострой» на должность производителя работ. Работы пришлось производить в ужасных условиях нетронутых цивилизацией казахских степей. Единственным способом для молодого специалиста улучшить эти условия – стать в руководство, возглавить других молодых специалистов, и в свои двадцать четыре года Лежнев стал членом партии.
Много позже, во времена уже победившего капитализма, в своей книге воспоминаний Константин Леопольдович заявил, что «вступил в партию, чтобы развалить её изнутри». И, безусловно, Академию общественных наук при Центральном Комитете ПАРТИИ Лежнев окончил именно для того, чтобы «развалить» её, а не расти и получать от своего роста всё новые и новые преференции.
Высокопрофессиональный управленец, идущий «верным курсом» и обладающий блестящим, воспитанным в себе навыком прогибать и прогибаться, за 20 лет прошёл путь от кочегара до главы администрации Номской губернии, куда был назначен указом президента новой страны, перед этим выйдя из состава бессильной ПАРТИИ уже разваленного им же государства.
Минуло ещё 15 лет. За это лихое для всей страны время губернатор-невидимка развил и без того сверхчеловеческую способность удерживать власть в своём сумеречном регионе. Константин Леопольдович прослыл гибким политиком, пересидев обоих президентов, демонстрируя глубокую лояльность к любой столичной власти.
На протяжении этих лет Лежнев с филигранной точностью планомерно подминал под себя городское хозяйство, не упуская ни мелких в сфере услуг, ни крупных градообразующих предприятий, укрупняя свой, ставший уже семейным, бизнес. Оставаясь незримым хозяином регионального рынка, губернатор стал сказочным Крёзом для наводнивших губернию предпринимателей, как вековой восьмипудовый сом – исполин, живущий в глубоком мутном омуте и ставший легендарным в тесном завистливом мирке повядших в борьбе за импортную наживку рыбаков.
Беда пришла, откуда её не ждали. Пришлые ревизоры и раньше наваливались на владения Лежнева, как оголодавшие от длительного перехода ордынцы в помятых и запыленных костюмах-латах. Проверяющие быстро насыщались, не отходя далеко от ревизируемых ими присутствий, четко отслеживая транспортную логистику и границы часовых поясов, бодро отбывали в соседний регион.
Новый областной прокурор, назначенный взамен скончавшегося месяц назад прежнего, как-то очень рьяно взялся за многочисленные доносы и заявления граждан, озабоченных творящимся в губернии беспределом. Всё чаще и чаще он стал запрашивать выемку финансовых отчетов «близких» к Константину Леопольдовичу предприятий, компаний и обществ. А тут ещё в одном из интервью известная российская поп-звезда мельком упомянула о соседстве своего маленького особняка, расположенного в Майами-Бич, штат Флорида, с огромными владениями Номского губернатора. И тогда Константин Леопольдович осознал, что эра его личного феодализма подошла к концу.
Прежние схемы достатка, проверенные временем, рушатся под натиском нового времени, соединившего промышленные высокотехнологичные процессы с не менее технологичными информационными процессами. Время руководителей из 80-х прошло безвозвратно. Пришло время вернуться на землю.
***
Губернатор стоял в своём кабинете у огромного панорамного окна, выходившего на центральную площадь Номска, и без особого интереса наблюдал за красивой девушкой, быстро идущей к крупной брендированной машине с огромным логотипом «11-го канала», нелепо размазанным по неровным поверхностям автомобиля.
Панорамное стекло, изготовленное по специальному заказу, являлось прекрасным воплощением современной научной мысли в сфере безопасности, оберегающим своими качествами от всего спектра угроз, окружающих своего хозяина, – так говорилось в переведённом на неимоверное количество языков слогане, горделиво красовавшемся на рекламном буклете чудо-окна.
Незримый для ранних прохожих, бегущих по своим мелким делам, Константин Леопольдович Лежнев возвышался, как бы парил над всем своим уделом, бегло обозревая почти весь город. А город медленно проявлялся в подсвеченных яркими фонарями улицах, слегка чумазых после принесённой из соседнего региона клубом пыли, разновеликих жестяных блёкло-зелёных крышах, разбросанных неровными рядами клочках растительности, как бы прижавшихся с обеих сторон к берегам раздавшейся после дождя реки.
Лежнев обозревал свои владения – семена, собранные на протяжении долгих лет, отсеянные твёрдой рукой селекционера, любовно выращенные тяжёлым трудом, – сейчас они вырождаются из-за сорных трав и вредителей, заполонивших его наделы. Плодородные земли, его труд, который так и не превратился в наследство.
– Что в остатке? – думал губернатор. – Бесконечные орды насекомых, уничтожающие сочные побеги, городское хозяйство, состоящее из долгов перед федералами, бездумно запущенное сельское хозяйство, остановившиеся заводы «оборонки», жалкие остатки того, что называется малым предпринимательством, недостроенное метро и масштабные, неисполнимые планы строительства водохранилища, нового аэропорта, разваливающаяся спортивная арена?
Всё это уже не имело никакого потенциала…
– Пора… – подумал вслух Лежнев.
И в этот миг в дверь глухо постучали.
***
Конец второй главы.
Отступление второе
Труды Аристотеля, ставшие популярными в среде исследователей теории возникновения нравственности, – в частности, его "Этика" – открывают любопытный спор, связанный с выбором, возникающим в процессе становления "homo moralis": что принять человеку моральному, созидающему и деятельному в качестве центра приложения сил, развития и благоустройства – общественное или личное?
Этические рамки, закладываемые разными общественными группами, порой весьма противоречивы и проявляются в характере отношений, сложившихся в той или иной общности людей, а именно в противопоставлении индивидуальности коллективизму.
Один общественно-политический строй отождествляет стремление личности к реализации своих законных амбиций с вектором успешного развития всего общества за счёт повышения качественных показателей каждого из его членов. В то же время существует и противоположная общественная структура, считающая, что любое проявление индивидуальности идёт вразрез с коллективной моралью, а стремление к самореализации воспринимается как эгоизм и карьеризм.
Безусловно, причины различного восприятия, казалось бы, абсолютных истин, кроются в национальном характере народов и в особенностях их этических координат.
Разделяющий фактор, наметивший границы государств, основан на принятом тем или иным народом морально-этическом кодексе, определяющем в обществе такие понятия, как добро и зло, а также соотношение гордыни и смиренного послушания.
Послушание (или смирение) порой определяет национальную самобытность народа, его своеобразие, готовность к терпению перед властями, покорность. Самоопределение, фатализм и национальная гордость – всё это и есть связующая сила, объединяющая столь различных, уникальных людей в один народ, единую общность, нацию.
Бездуховность, порицаемая этическими стандартами современного общества, идёт вразрез с доминирующей социальной парадигмой, в которой путём нехитрых манипуляций подменяется понятие национальной гордости. Национализм, презрение к ближнему, предпочтение себя всем, гордыня, бесчувственность ума и сердца, хула, неверие, колкое насмешничество, замена смирения молчанием, потеря простоты и любви к ближнему, ложная философия, порождающая невежество – всё это ведет к смерти души.
Глава третья
Распил
– Нам нужны миллионы собственников, а не горстка миллионеров
Г, – говорил первый президент России, обращаясь к гражданам новой страны и объясняя цель приватизации.
После распада огромной страны новое государство – Российская Федерация, взвалив на себя все обязательства СССР, практически обанкротилось.
Прежняя модель планово-распределительной экономики распалась, как ветхое судёнышко, подхваченное внезапным, всё разрушающим ураганом. Прежние производственные связи рвались на границах новых государств. Когда-то объединяющий производственный процесс советский рубль пал под натиском национальных валют, быстро обретших стихийную независимость, когда-то «братских» республик.
Брошенные на произвол предприятия вынужденно останавливали производство, разрываясь в поисках поставщиков, а главным образом – финансов, как для расчетов со смежниками, так и для оплаты труда собственных сотрудников.
Деньги стремительно обесценивались. Участники новых рыночных отношений перешли к свободному ценообразованию. Из-за различных как политических, так и финансовых условий уровень инфляции к началу 1993 года превысил астрономические 2500%.
В поисках решения экономических проблем новое руководство страны не нашло ничего лучшего в процессе борьбы с коммунистическим прошлым, как использовать излюбленный коммунистический же принцип – ВСЁ ПОДЕЛИТЬ! И началась приватизация.
Стоимость государственного имущества, подлежащего приватизации, составила 1,4 трлн рублей. Оценить реальную стоимость имущества было проблематично. За основу взяли цифры плановой оценки за 1991 год. Процессу передачи государственной собственности в частные руки подлежали крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, земля и жилой фонд. Из государственных предприятий они преобразовывались в акционерные общества. В стране начался выпуск 140 млн ваучеров.
Право на ваучер было у каждого гражданина страны – «от младенца до глубокого старца». В теории любой россиянин мог стать владельцем части крупного предприятия. За 25 рублей каждый россиянин мог получить приватизационный чек номиналом 10 тысяч рублей. На ваучер можно было приобрести акции любого приватизируемого предприятия России.
«Приватизационный чек – шанс на успех, который дается каждому. Помните: покупающий чеки расширяет свои возможности, тот, кто продает, – лишается перспектив!» (памятка к ваучеру).
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе