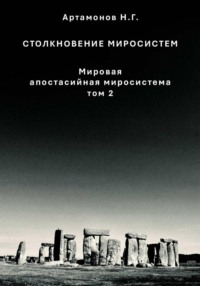Читать книгу: «Столкновение миросистем. Мировая апостасийная миросистема. Том 2»
1
Введение
1.1
Диагноз современности сквозь призму античного кризиса
Падение Западной Римской империи, хронологически зафиксированное в 476 году отречением Ромула Августула, традиционно воспринимается как одна из самых громких катастроф в анналах человеческой истории. Казалось, рухнул не просто политический режим, а целая вселенная – мир, простиравшийся от туманных болот Британии до раскаленных песков Аравии, скрепленный могучей волей, незыблемыми законами и несокрушимыми легионами. Политический труп империи был предан забвению, ее столица, разграбленная варварами, погрузилась в многовековую спячку, а символы императорской власти были с позором отосланы в Константинополь как немое свидетельство упразднения былого величия.
Однако величайший парадокс, который составляет сердцевину нашего исследования, заключается в том, что Рим, безвозвратно исчезнув с политической карты мира, не канул в Лету. Напротив, он обрел новую, куда более могущественную и призрачную форму существования – форму живого наследия, вплетенного в самую генетическую структуру западной, а впоследствии и глобальной цивилизации. Мы, люди начала третьего тысячелетия, обитатели цифрового Вавилона, демиурги искусственного интеллекта и покорители космического пространства, при ближайшем и непредвзятом рассмотрении оказываемся мыслящими и действующими категориями, отлитыми две тысячи лет назад в интеллектуальных и правовых мастерских Вечного Города. Таким образом, обращение к феномену Рима – это не академическая прихоть историков-антиковедов и не ностальгический вздох по безвозвратно утраченной классике. Это – насущная интеллектуальная и экзистенциальная необходимость, продиктованная потребностью в глубоком самопознании современного человека и в точной диагностике системных кризисов, потрясающих основы нашего собственного мира. Рим становится гигантским метаисторическим зеркалом, в котором мы с трепетом и ужасом узнаем черты собственного цивилизационного лица.
1.1.1
Феномен «живого наследия»
Римское наследие – это далеко не только коллекция мраморных торсов под стеклом музейных витрин, не руины форумов, будоражащие воображение туристов, и не пожелтевшие свитки с трудами забытых историков. Это – воздух, которым мы, сами того не ведая, дышим; это невидимая, но невероятно прочная матрица, определяющая саму логику нашего коллективного мышления, социальной организации и восприятия реальности. Его проявления носят настолько фундаментальный, субстратный характер, что мы перестаем их замечать, подобно тому, как не замечаем биения собственного сердца или работы нейронов в коре головного мозга, пока они не дадут сбой.
Возьмем, к примеру, сферу права и логики. Когда современный юрист оперирует такими концептами, как «юридическое лицо», «вещное право», «контракт», «исковая давность», «процедура апелляции» или «презумпция невиновности», он использует не просто набор терминов, а целые философско-правовые комплексы, выкованные в горниле римской юриспруденции многовековой работой таких умов, как Гай, Ульпиан и Папиниан. Сухой, отточенный, лишенный поэтических метафор и эмоциональной окраски язык современных гражданских кодексов, с его стремлением к однозначности и системности, – это прямой и бесспорный потомок лаконичного, точного и беспристрастного стиля римских юристов, ставивших своей высшей целью подчинить хаотичную, иррациональную человеческую страсть безличному, рациональному и всеобщему Закону (Lex). Сама структура нашего правосознания, основанная на принципах прецедента, скрупулезной систематизации и абстрактных правовых нормах, есть прямое наследие Рима, его величайший дар, позволивший цивилизации обуздать произвол и создать каркас правового государства.
Не менее значимо римское наследие в области гражданской идентичности и публичной сферы. Само понятие «гражданства» (civitas), с его сложным, диверсифицированным комплексом прав, обязанностей и привилегий, кардинально отличным от простого, пассивного подданства деспоту, родилось и было доведено до совершенства именно в Риме. Революционной для древнего мира, основанного на кровно-племенных, этнических и локальных связях, стала идея, что человек, рожденный в далекой Сирии, Египте или Испании, может посредством юридического акта или заслуг стать «римским гражданином», обладающим универсальным статусом, защищаемым на всей гигантской территории Империи. Эта модель универсальной, наднациональной и надэтнической принадлежности к единому политическому и правовому сообществу стала прямым прообразом и фундаментом для всех последующих концепций гражданства, прав человека и международного права. Даже наша современная публичная сфера – ожесточенные дискуссии на политических форумах, трансформировавшихся ныне в социальные сети и медиапространство, парламентские дебаты, судебные процессы, открытые для публичного наблюдения, – все это восходит к римскому Форуму как сакральному центру общественной жизни, где решались судьбы людей и народов в открытом столкновении аргументов и риторического мастерства.
Переходя к материальному, инфраструктурному аспекту, мы обнаруживаем, что буквально ходим по земле, распланированной римским гением. Мы живем в городах, чья историческая сердцевина и часто базовая планировочная структура восходят к строгой, рациональной геометрии римского военного лагеря – «каструма» с его двумя перпендикулярными осями, кардо (север-юг) и декуман (восток-запад). Центральная площадь, форум, выполнявшая функции административного, торгового и религиозного центра; сеть прямых, мощенных улиц; общественные бани, термы, бывшие не просто местами для омовения, а настоящими клубами и центрами социальной жизни; грандиозные сооружения для массовых зрелищ – амфитеатры, как Колизей, и цирки; театры и публичные библиотеки – все это элементы римского урбанизма, превращавшие любое, даже самое отдаленное поселение, в островок цивилизованного, упорядоченного пространства, в миниатюрный Рим. Наши глубинные, часто неосознанные представления о городском комфорте и гигиене – надежное дорожное покрытие, функционирующая подземная канализация, централизованное водоснабжение, доставляемое по акведукам за десятки километров, – были не просто изобретены, но массово, титанически реализованы римскими инженерами. Они были гениями не столько первооткрывательства, сколько гениями систематизации и тиражирования, создавшими первый в истории универсальный стандарт «качества жизни» и имперский масштаб его применения.
Наконец, сама ткань нашего времени и наш интеллектуальный инструментарий пронизаны римским влиянием. Календарь, по которому мы до сих пор в значительной степени живем, юлианский, с последующей григорианской корректировкой, был даром Рима, результатом административной воли Юлия Цезаря и александрийской учености Созигена. Наша временная ось, мысленно разделенная на эпохи «до нашей эры» и «нашей эры», сама по себе является мощным отражением римского, а впоследствии христианско-римского линейного и телеологического восприятия истории, пришедшего на смену языческому циклизму. Латынь, язык римских законотворцев, ораторов и легионов, не только стала праматерью всех романских языков, но и осталась универсальным языком европейской науки, медицины, биологии и юриспруденции, хранящим в своих лаконичных и точных формулах кристальную, неумолимую логику римской мысли. Таким образом, невидимая Римская Империя продолжает существовать в параграфах наших конституций, в планах наших городов, в ритме нашего времени и в самом языке, на котором мы описываем мир.
1.1.2
Рим как диагноз современности
Однако подлинная, жгучая актуальность Рима заключается отнюдь не только в его триумфальных, монументальных достижениях, но и в его глубокой, затяжной и системной трагедии. Цивилизация, достигшая апогея материальной мощи, военного могущества, административной эффективности и правового развития, неожиданно для самой себя вступила в полосу затяжного, всестороннего кризиса, завершившегося не быстрым коллапсом, а многовековой агонией и трансформацией. Именно этот закат, это сумеречное состояние империи, а не ее блестящий полдень, делает Рим особенно близким, поучительным и пугающе узнаваемым для нас сегодня.
Вспомним кризис идентичности и фундаментальных ценностей. Римская республика, та маленькая, но невероятно жизнеспособная община на Тибре, держалась на железном кодексе «mos maiorum» – обычаев предков, на незыблемых добродетелях virtus, понимаемой как гражданская и военная доблесть, pietas, благочестие как долг перед богами, отечеством и семьей, fides, верность слову и договору, и gravitas, сознание собственного достоинства и ответственности. Однако беспрецедентная военная и экономическая экспансия, обвальное обогащение правящей олигархии, болезненное столкновение с утонченной и соблазнительной эллинистической культурой – все это расшатало, размыло и в конечном счете разрушило этот некогда монолитный нравственный каркас. На смену суровому, аскетическому идеалу гражданина-земледельца-воина пришел циничный, прагматичный делец, политик-популист и толпа городского плебса, требующая от государства «хлеба и зрелищ», panem et circenses, в обмен на лояльность. Мы видим отголоски этого процесса в нашей современности: в кризисе традиционных ценностей и социальных институтов, в торжестве потребительской идеологии и гедонизма, в культурном и этическом релятивизме, в отчаянных поисках новых, зачастую искусственных, идентичностей и духовных ориентиров в условиях глобализации, безжалостно стирающей культурные границы и историческую память.
Не менее явственно прослеживается разрыв между технологическим прогрессом и нарастающим духовным вакуумом. Рим достиг невероятных, ошеломляющих высот в практических, прикладных знаниях: инженерии, строительстве, архитектуре, логистике, военном деле, агрономии. Акведуки, дороги, бетон, сводчатые конструкции, центральное отопление – все это свидетельствовало о невероятном мастерстве над материальным миром. Но параллельно с этим, словно тень, нарастало в сферах общественного сознания чувство глубокой экзистенциальной тоски, бессмысленности, утраты связи с сакральным. Материальное изобилие и технический комфорт оказались неспособны заполнить образовавшуюся духовную пустоту, что породило взрывной, почти истерический интерес к самым разным восточным культам, Исиды, Митры, к мистериям, астрологии, магии и, в конечном счете, к христианству – религии, предлагавшей не коллективное благополучие в рамках земного государства, а личное спасение, искупление и трансценденцию. Эта раздирающая дихотомия – между безудержным технологическим оптимизмом и томящейся, ищущей душой – до боли знакома современному человеку, живущему в мире цифровых технологий, биотехнологий и искусственного интеллекта, но при этом отчаянно ищущему смысл, подлинность, общность и нечто, выходящее за пределы материального потребления.
Далее, Рим с пугающей точностью предвосхитил проблему интеграции и «имперского бремени», актуальную для современных мультикультурных обществ и глобальных геополитических игроков. Империя столкнулась с грандиозным вызовом: как ассимилировать, инкорпорировать и лоялизировать огромное количество разнородных народов – галлов, иберов, греков, египтян, сирийцев, германцев – с их собственными, подчас глубоко чуждыми, традициями, богами, языками и образом жизни? Политика гибкой ассимиляции, дарования гражданских прав, создания общей культурной и правовой платформы, романизации, и строительства инфраструктуры была, без сомнения, одним из величайших успехов Рима, позволившим ему просуществовать века. Однако на поздних, заключительных этапах своего существования империя начала терять контроль над этим процессом. Она не смогла окончательно справиться с постоянным внешним давлением на растянутые границы, когда «варвары» уже не просто набегали, а селились на ее землях, и, что еще важнее, с внутренней дезинтеграцией, когда восточные, эллинизированные провинции, особенно после переноса столицы в Константинополь, начали все более открыто оспаривать культурную и политическую гегемонию старого Рима. Это прямое и недвусмысленное указание на фундаментальные сложности и потенциальные тупики политики «плавильного котла», на хрупкость единства, основанного лишь на административной целесообразности и общей выгоде, без глубокой духовной и ценностной скрепы.
Наконец, экономическая и социальная сферы Рима периода упадка демонстрируют разительные параллели с нашим временем. Концентрация земельной собственности и финансового капитала в руках узкой прослойки сенаторской и всаднической аристократии, знаменитая латифундия, о которой Плиний Старший с горечью писал, что она «погубила Италию», прогрессирующее обнищание и маргинализация широких масс свободного населения, превращение некогда независимых крестьян и ремесленников в зависимых арендаторов-колонов, гиперинфляция, вызванная безответственной порчей монеты, кризис долговой экономики и системы налогового откупа – все эти черты поздней Римской империи находят свои прямые, пусть и видоизмененные, параллели в современных дискуссиях о растущем социальном неравенстве, судьбе среднего класса, долговых кризисах суверенных государств и хрупкости глобальной финансовой системы, основанной на фиатных деньгах.
1.1.3
Постановка центрального вопроса книги
Таким образом, Рим предстает перед нами не как застывшая, покрытая пылью музейная диорама, а как гигантская, многомерная проекция наших собственных цивилизационных надежд и глубинных страхов, наших триумфальных достижений и наших же системных тупиков. Это заставляет нас сформулировать центральный, сквозной вопрос, на который и пытается дать ответ данная книга, пронизывая своим поиском все последующие главы, от анализа материального базиса до исследования духовных вершин:
Каким образом цивилизация, рожденная из изначального, братоубийственного конфликта Ромула и Рема – мифа, символизирующего извечную борьбу и раскол, заложенный в саму основу римской государственности, – сумела преодолеть эту внутреннюю рознь и создать на долгие века универсальную, всеохватную матрицу Закона, Разума, Порядка и Имперской Воли, подчинившую себе все Средиземноморье? И почему эта же самая матрица, доведенная до своего логического абсолюта и предельной эффективности, в конечном счете породила внутри себя неразрешимые противоречия, экзистенциальный голод духа и тотальный системный кризис, сделавший ее политический упадок не только исторически неизбежным, но и провиденциально необходимым для мучительного, но животворного рождения нового, средневекового и христианского мира?
Поиск ответа на этот двойной, диалектический вопрос – это не просто увлекательное академическое упражнение в области исторической реконструкции. Это – попытка понять, не несем ли мы в самих основах нашей техногенной, глобализированной цивилизации некий роковой изъян, некий «ген упадка», обрекающий нас на повторение римской судьбы. И есть ли в самом римском наследии, в этом напряженном диалоге между безудержным прагматизмом и тоской по трансцендентному, между жестокостью Закона и милосердием Логоса, некий спасительный ресурс, некий ключ к преодолению тупиков, в которые мы сами, как цивилизация, все более уверенно заходим.
Понять Рим, во всей его грандиозной целостности и трагической противоречивости, – значит сделать первый и самый важный шаг к тому, чтобы понять самих себя, те скрытые культурные коды и исторические силы, что продолжают незримо определять нашу коллективную судьбу на новом, еще неведомом и пугающем пороге истории.
1.2
Genius Loci Рима – архитектура цивилизационного универсума
Если первый, фундаментальный вопрос, с которым мы обращаемся к феномену Рима, звучит как «почему он актуален для нас?», то естественным и неизбежным продолжением становится вопрос второй, более глубокий и сущностный, обращенный к самой природе этого исторического феномена: «в чем заключалась та единственная и неповторимая сила, та внутренняя пружина, что позволила этой скромной общине на Тибре не просто выжить в жестокой борьбе за существование, но и трансмутировать себя в универсальную Империю, чье метафизическое и культурное наследие с лихвой пережило ее политический труп?». Ответ, предлагаемый данной книгой и пронизывающий все ее последующие главы, лежит не в узкой сфере военной доктрины, экономической политики или административных реформ. Он укоренен в более глубоких пластах – в области коллективной психологии, метафизики и того, что можно было бы назвать цивилизационной онтологией. Он сокрыт в самой сердцевине римского мироощущения – в архаической, но наполненной новым смыслом концепции Genius Loci, «гения места». Однако в предлагаемом нами прочтении это понятие решительно выходит за тесные рамки древнего культа, обретая масштаб и значение собирательного, исторически вызревавшего Духа всей римской цивилизации – ее уникальной, доведенной до виртуозности способности к тотальному, всепоглощающему и целеустремленному синтезу. Это был дух-архитектор, дух-систематизатор, который методично и неумолимо превращал сырой хаос завоеванных земель в стройный космос провинций, пестрый Вавилон народов, языков и культов – в интегрированное сообщество граждан и подданных, а экзистенциальную тревогу человека, затерянного в гигантском и безличном механизме империи, – в систематизированные, институционализированные и ритуализированные поиски личного спасения. Гений Рима был гением претворения множественности в единство, разнородности – в иерархию, потенции – в акт.
1.2.1
Синтез как онтологический принцип
Чтобы по-настоящему понять природу римского синтеза, необходимо вернуться к его мифологическим истокам, к тому первонарративу, который заложил матрицу для всей последующей истории. Основание города, согласно легенде, было ознаменовано актом братоубийства – Ромул, защищая сакральные границы будущего города, умертвил своего брата Рема, переступившего через них. Этот мрачный миф отнюдь не случайность; он является глубочайшим символом, раскрывающим внутреннюю драму римской идентичности. Изначальное насилие, внутренний раскол, борьба за установление и поддержание границ – все это стало той питательной средой, из которой произросла железная воля к порядку. Но следующий ключевой миф – об учреждении asylum'а, священного убежища на Капитолийском холме, куда стекались «всякий соседний сброд: беглые рабы, изгнанники и преступники» – демонстрирует другую, комплементарную сторону римского гения. Это была не община «чистой крови», ревниво охранявшая свою этническую исключительность, как греческий полис, но община, с самого начала основанная на принципе интеграции, на способности вбирать в себя чужое, маргинальное, инородное и переплавлять его в новое качество – в populus Romanus. Таким образом, уже в момент своего мифологического рождения Рим заявляет о себе как о парадоксе: его порядок рождается из хаоса насилия, а его единство – из сознательной интеграции разнородных элементов.
Этот изначальный парадокс стал онтологическим принципом, определившим всю дальнейшую историю римской экспансии. В отличие от иных имперских образований древности, стремившихся к тотальному уничтожению, подавлению или сегрегации покоренных культур, Рим – за исключением особенно ожесточенных и безнадежных конфликтов, вроде войны с Карфагеном – избрал иную, куда более изощренную и долговечную стратегию. Ее можно определить как стратегию цивилизационного инжиниринга. Римская империя мыслила себя гигантским культурным плавильным тиглем, который не стирал идентичности завоеванных народов в порошок, но с методичной, почти инженерной настойчивостью вбирал их богов, технологии, агрономические практики, знания, эстетические идеалы и правовые нормы, подвергал их тщательной селекции, перерабатывал на свой сугубо прагматичный лад, приспосабливал к своим насущным политическим и административным нуждам и возводил на этой сложной, гибридной основе нечто принципиально новое – универсальную, общечеловеческую модель порядка, пронизанную волей к системности, иерархии и долговечности. Римляне были не столько творцами, сколько величайшими редакторами и композиторами мировой истории, собиравшими разрозненные «ноты» средиземноморских культур в грандиозную и стройную «имперскую симфонию».
Проиллюстрируем этот процесс несколькими развернутыми примерами. Возьмем, прежде всего, сферу религии и сакрального. Изначальный римский культ, сухой, формалистичный и глубоко утилитарный, представлял собой, по сути, юридический договор, do ut des – «я даю, чтобы ты дал», с безличными, анимистическими силами, наполнявшими природу, numina. Столкнувшись во время завоевания Великой Греции и эллинистического Востока с богатым, эмоциональным, антропоморфным и мифологически разработанным пантеоном Древней Эллады, римская религиозная мысль не отринула его как чуждое и вредное суеверие, но произвела масштабную и системную операцию отождествления, получившую название interpretatio romana. Юпитер был отождествлен с Зевсом, Юнона – с Герой, Минерва – с Афиной, Марс – с Аресом, и так далее. Однако римляне пошли дальше простого механического заимствования имен и атрибутов. Они взяли у греков соблазнительную антропоморфную пластику богов, их увлекательную, полную страстей и драматизма мифологию и эстетическое изящество, но при этом сохранили и усилили свою собственную, глубоко прагматичную и государственно-ориентированную трактовку религии как инструмента поддержания общественного порядка, pax deorum, социальной сплоченности и легитимации власти. Религия стала неотъемлемой частью res publicae, делом государственной важности, а жрецы – магистратами. Этот гениальный синтез создал ту самую греко-римскую религиозную систему, которая, с одной стороны, была понятна, эстетически привлекательна и потому приемлема для эллинизированных народов, а с другой – оставалась надежным и эффективным инструментом римской политики и идеологии, скрепляющим пеструю империю общей системой сакральных символов и практик.
Тот же универсальный принцип синтеза с предельной ясностью проявляется в сфере архитектуры, инженерии и градостроительства. Римляне, будучи народом с обостренным чувством практической пользы, utilitas, с величайшей благодарностью и вниманием перенимали чужие инженерные и архитектурные открытия: от этрусков они унаследовали мастерство кладки из тесаного камня, мощную клинчатую арку и коробовый свод, а также сакральные принципы ориентации городов; от греков – изысканную ордерную систему, утонченные принципы гармонии и пропорций, технологию мраморной облицовки. Но они не стали ни рабскими копиистами, ни эклектичными собирателями чужого. Их гений проявился именно в синтезе, в сплаве: они соединили эстетическую утонченность и пропорциональную ясность греческого ордера с конструктивной мощью и пространственным размахом, дарованными этрусской аркой. Более того, они использовали ордер не как органичный элемент стоечно-балочной конструкции, как это было у греков, но зачастую как декоративный, «навесной» фасад, как благородную оболочку, скрывающую могучую, утилитарную основу здания, сложенного из кирпича или бетона. Этот подход был доведен до логического и технологического абсолюта с изобретением римского бетона, opus caementicium. Этот революционный материал, позволявший отливать конструкции любой формы, освободил римских зодчих от диктатуры прямоугольника и прямого угла, даровав им возможность творить принципиально новые, доселе невиданные архитектурные пространства – грандиозные цилиндрические и крестовые своды, исполинские полусферические купола, как в Пантеоне, сложные многоугольные и криволинейные планы терм, дворцов и нимфеев. Таким образом, римская архитектура стала не простой суммой заимствований, а качественно новым, синтетическим феноменом, где эллинистическая красота и изящество были неразрывно спаяны с римской прочностью, firmitas, невиданным масштабом и утилитарным гением, воплощенным в акведуках, дорогах, мостах и канализационных системах, опутавших всю ойкумену.
1.2.2
Диалог Логоса и Закона
Наиболее ярко, глубоко и сущностно римский Genius Loci, его синтетическая природа, проявилась в области интеллектуальной, в том великом и непрерывном диалоге, который Рим на протяжении всей своей истории вел с покоренной им духовно, но оставшейся непревзойденной учительницей – Элладой. Греция, его вечный учитель, соперник, объект восхищения и скрытой зависти, подарила миру то, что составляет фундамент европейского разума: абстрактную мысль, философский концепт, эстетический канон, бескорыстную жажду чистого, теоретического знания – то, что можно обозначить емким и многогранным понятием Логос, λόγος. Логос – это не просто Слово; это Разум, Смысл, закономерность, универсальный принцип, упорядочивающий космос, теоретическое знание, стремящееся к постижению истины и блага как таковых, вне их непосредственной практической применимости.
Рим же, с его сугубо практическим, земледельческим и военным этосом, был носителем иного, комплементарного начала – Закона, Lex. Закон в римском понимании – это не просто свод писаных предписаний и запретов; это сам Порядок, Структура, Власть, imperium, иерархия, субординация, дисциплина и, прежде всего, воля к практическому воплощению, к организации, администрированию и систематизации самой реальности. Это принцип, проецируемый из сферы права на все мироздание. Римский прагматизм, этот исполинский мотор имперского строительства, взял утонченный греческий Логос – этот прекрасный, но зачастую умозрительный и оторванный от сиюминутных задач идеал – и воплотил его в бетоне и мраморе своих колоссальных построек, в неумолимых, отточенных как лезвие статьях права, в строгой, не знающей преград сетке дорог, связавших в единое целое всю ойкумену, в четких, как военный приказ, административных механизмах управления провинциями. Греция дала теорию, Рим – практику; Греция открыла идею, Рим – технологию ее реализации; Греция говорила о космосе, Рим этот космос строил.
Этот фундаментальный диалог можно проследить на примере трансформации риторики. В классической Греции риторика была, с одной стороны, искусством убеждения, инструментом политической борьбы и лидерства в условиях демократического полиса, а с другой – путем самовыражения и самопрезентации личности, формой интеллектуального состязания. В Риме же она была без остатка поставлена на службу государству и индивидуальной карьере в рамках cursus honorum. Риторические школы готовили не философов и не поэтов, а эффективных управленцев, беспристрастных судей, ловких политиков и блестящих адвокатов. Упражнения suasoriae, убедительные речи на историко-мифологические темы, и controversiae, судебные дебаты по сложным, часто надуманным казусам, были отнюдь не интеллектуальными играми или тренировками эрудиции, но суровыми тренажерами для принятия судьбоносных административных и судебных решений в условиях неопределенности, для анализа противоречивых свидетельств, для взвешивания аргументов «за» и «против», для искусства воздействия на эмоции и волю слушателей. Греческое искусство слова, techne rhetorike, направленное на поиск истины и воспитание гражданина, было радикально трансформировано и подчинено задачам римского орудия власти, instrumentum imperii.
Не менее показательная метаморфоза произошла и в сфере философии. Спекулятивная натурфилософия досократиков, сложная метафизика Платона или энциклопедизм Аристотеля в их чистом, самодостаточном виде почти не интересовали римский ум, видевший в них праздное умствование. Зато практическая этика позднего эллинистического стоицизма, с ее культом долга, самодисциплины, стойкости перед лицом судьбы, amor fati, личной ответственности и служения общественному благу, была воспринята римской элитой как идеальная, можно сказать, провиденциальная философская основа для правящего класса мировой империи. Стоический идеал мудреца, не подвластного внешним обстоятельствам и руководствующегося лишь естественным законом, был переосмыслен как образец для римского магистрата, администратора, полководца и самого императора. Фигура императора-стоика Марка Аврелия – это апофеоз, ярчайший символ и личное воплощение этого синтеза: в его «Размышлениях», написанных по-гречески, на языке изначального Логоса, изложен суровый экзистенциальный кодекс поведения римского правителя, несущего на своих плечах всю тяжесть Закона и бремя Имперской Воли. Даже эпикуреизм, с его призывом уйти от общественной деятельности, был переосмыслен Лукрецием как философское обоснование личной независимости и духовной атараксии, необходимых для сохранения внутренней свободы в условиях имперского деспотизма.
1.2.3
Методология «Гения места»
Таким образом, римский Genius Loci предстает перед нами не как пассивный дух-хранитель некоего сакрального ландшафта, но как активный, творящий принцип, как архитектор реальности, чья методология была основана на нескольких незыблемых, хотя и редко вербализуемых, принципах, определявших все аспекты имперской жизни от религии до канализации.
Прежде всего, это был принцип утилитарности. Все, что не имело ясного, осязаемого практического применения или не могло быть адаптировано для нужд государства, управления, армии, инфраструктуры или поддержания социального порядка, безжалостно отбрасывалось или отодвигалось на периферию культурного внимания. Глубокие математические изыскания Архимеда, его гениальные геометрические доказательства интересовали римского полководца Марцелла и его солдат неизмеримо меньше, чем те же самые законы механики, воплощенные в грозных осадных машинах, защищавших Сиракузы. Теоретическая физика Аристотеля была интересна лишь узкому кругу интеллектуалов, в то время как прикладная механика Герона Александрийского, описывающая устройство кранов, насосов и автоматов, находила самое широкое применение в римском строительстве и инженерии.
Следующим краеугольным камнем был принцип систематизации. Любое знание, любой социальный институт, любая завоеванная территория должны были быть приведены в единую, логичную и иерархическую систему, каталогизированы, описаны, измерены и подчинены универсальным правилам. Римское право, этот величайший памятник систематизирующему духу, есть не что иное, как гигантская попытка уложить всю сложность человеческих отношений в стройную систему взаимосвязанных понятий, норм и процедур. Corpus Juris Civilis Юстиниана – лишь финальная кодификация этого многовекового стремления. Точно так же организация провинций, налоговая система, военная дислокация, даже литературные каноны, Вергилий, Гораций, Цицерон, – все подлежало систематизации, созданию эталонов и образцов для подражания.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе