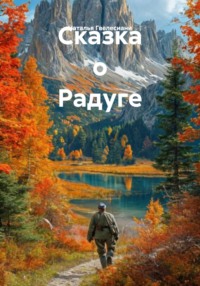Читать книгу: «Сказка о Радуге»
Предисловие
Когда-то полузабытый ныне русский писатель-сказочник Н. Вагнер, живший в 19 веке,– он был автором популярного в свое время сборника «Сказки Кота-Мурлыки» – написал "Сказку о принце Гайдаре".
По моему мнению, подсказанному мне художественным чутьем, ее внутренний сценарий, или скажем так – внутренне семя – по закону глубинного родства душ – воплотился в жизни и судьбе советского детского писателя Аркадия Гайдара. Причем, он мог при этом и не знать о сказке Вагнера. Хотя последнее маловероятно.
Ведь Вагнер даже одно время преподавал в Нижегородском Александровском дворянском институте. И наверняка его имя было потом на слуху в провинциальном нижегородском Арзамасе, где жил юный Аркадий.
Когда я приступила к написанию романа, реальная жизнь А. П. Гайдара, как и жизнь и судьба современного литератора Годара, который пишет о нем в романе книгу – стали превращаться в невероятно насыщенное, увлекательное повествование. Биографические факты при этом причудливо переплетались с вымыслом и фантастикой. Но фантазия исходила не от авторского произвола. Все это буквально струилось из внутренней Глубины. Озаренная внутренним светом и теплом, силой и благородством, эта Глубина и порождает все внешние события, которые, зеркально отражая этот глубинный Свет, теряя его в отражениях – плавают потом на поверхности, подобно ряби или бурным, темным волнам, закрывающим всякую попытку понять, увидеть, почувствовать. Только встав с Глубиной лицом к лицу можно вкусить смысл Бытия. И – разгадать внутреннюю логику внешних событий – от личных до исторических. Задача человека – увидеть себя с Божьей помощью в Зеркале подлинного Бытия. И – стать, наконец, собой.
Произведение, которое, однако, можно рассматривать совершенно отдельно, составляет вместе с моим более ранним романом «Дорога цвета собаки» своеобразную дилогию.
Часть первая. РАДУГА
« – Я за революцию, – коротко и упрямо повторил он, – за революцию, которую делают силой. И за то, чтобы бить жандармов из маузера и меньше разговаривать… Как это, ты читал мне в книге? – обратился он к одному из рабочих.
– Про что? – спросил тот, не понимая.
– Ну, про эти самые… про рукавицы… и что нельзя делать восстания, не запачкавши их.
– Да не про рукавицы, – поправил тот, – там было написано так: «революцию нельзя делать в белых перчатках».
– Ну вот, – тряхнул головой Лбов, – я за это самое «нельзя».
Поняли? – проговорил он, вставая, и рукой, разрисованной узорами запекшейся крови, провел по лбу. – Вот я за это самое, – повторил он резко и точно возражал кому-то. – И если бы все решили заодно, что к чертовой матери нужна жизнь, если все идет не по-нашему… если бы каждый человек, когда видел перед собой стражника, или жандарма, или исправника, то стрелял бы в него, а если стрелять нечем, то бил бы камнем, а если и камня рядом нет, то душил бы руками, то тогда давно конец был бы этому самому… как его. – Он запнулся и сжал губы. Посмотрел на окружающих. – Ну, как же его? – крикнул он и чуть-чуть стукнул прикладом винтовки об пол.
– Капитализму, – подсказал кто-то.
– Капитализму, – повторил Лбов и оборвался. Потом закинул винтовку за плечо и сказал с горечью: – Эх, и отчего это люди такие шкурники? Главное, ведь все равно сдохнешь, ну так сдохни ты хоть за что-нибудь, чем ни за что».
Cтрочки были как каленные провода внутри лампочки. Слишком сильный свет – сухой и жаркий, выжег сермяжной правдой появившуюся было надежду – тонко привставшую на кончики пальцев, как едва проклюнувшаяся трава, чтобы дотянуться до выключателя, схватившуюся за голову и – ничего не сумевшую. Ей, надежде, хотелось простого тепла, а ее огрели стремительным светом и, перед тем как сникнуть, она жалобно выплеснула единственное свое богатство – капельку влаги… Но и этого было достаточно, чтобы Годар все-таки встал и заходил по комнате.
Сегодня, как и вчера, как и много дней подряд, его жег огонь. Словно он проглотил солнце – нечаянно, по ужасной ошибке. И теперь солнце было внутри, а он – спасаясь от палящего зноя – соответственно, где-то снаружи. Солнце и человек поменялись местами. И знал бы кто, как это было для человека – страшно!.. Одно дело, когда на тебя давит, пригибая к долу, тяжесть Земли, и совсем другое – когда в живот вплывет на своей величественной колеснице сам Гелиос. Теперь уж держись!.. Как прикованный Прометей, Годар не находил покоя ни на диване, рядом с которым были разбросаны прямо на полу пачки с не помогающими ему таблетками, ни в ходьбе по комнате, на которую то и дело срывался, вскочив рывком с постели, где не спал не раздеваясь.
Придерживая дрожащей рукой стальные, обрывающие сердце мышцы этого горящего вечным пламенем живота, он на ходу бросил взгляд на обложку захлопнутой и отброшенной книги. Это был сборник выпущенных после перестройки ранних приключенческих повестей Аркадия Гайдара, купленный им за бесценок на рынке-развале.
Повесть, которую он читал, называлась «Жизнь ни во что (Лбовщина)» – она была посвящена истории восстания в первую русскую революцию 1905-1907 годов пермских рабочих, переросшего в вооруженную борьбу. Это восстание возглавил пермский рабочий Александр Лбов. После нескольких лет успешных боевых действий этот первый в Перми революционный отряд был уничтожен, а Лбов – казнен. И не то что б эта книга была самая тревожная – Годара теперь тревожили любые книги, звуки и шорохи, а также предметы, их окраска и даже прикосновения – все было одинаково болезненным и впивалось в душу гвоздями, раздирая ее, словно тело, ведь душа была теперь вне живота и трепетала на ветру жизни без всякого прикрытия, как трепещет тельце только что проклюнувшегося птенца или крыло бабочки. Но она, книга, несла какую-то ошеломительную, горькую до тошноты и в то же время важную, а стало быть, обнадеживающую, спасительную для его положения информацию, которую необходимо добыть.
И вот что интересно: он не мог смотреть на источники этой не добытой еще информации – прямо. Малейшие попытки остановить взгляд, сосредоточив его, на каком-либо предмете снаружи или мысли как предмете – усиливали жгучую тревогу и этот физический жар во всем теле. Реальность тоже была как расплавленная и плыла, затуманивая взор, в напряженно дрожащем мареве, подобно огненной реке, дымясь, как сталь в мартеновской печи. И ему приходилось всегда быть начеку, как тому металлургу, который извлекает из огненного дышла все новые и новые предметы. Только в его случае эти предметы множились и множились в геометрической прогрессии – они уже не помещались в сознание и сознание сворачивалось жалобным щенком и погружалось на дно. А там, на дне, тоже был кипяток, и щенок выскакивал наружу. Но снаружи – его опять били волны страшного света.
«– Огонек лампы тускло дрожал в задавленной лесом, в заметенной снегом землянке. И
три бородатых человека молча слушали четвертого, и из маленькой затрепанной книжки выпадали горячие готовые слова, выбегали горячими ручейками расплавленных строчек и жгли наморщенные лбы пропащих голов.
– Читай, читай, – изредка говорил Лбов, когда Степан останавливался, чтобы передохнуть, – начинай опять с прежней
строчки.
«…теперешнее правительство само порождает людей, которые в силу необходимости должны переступить закон. И правительство, с неслыханной жестокостью, плетьми и нагайками пытается взнуздать этих людей и тем самым еще больше ожесточает их и заставляет их решиться: или погибнуть, или попытаться разбить существующий строй…»
– Это про нас, – перебил Лбов, – это написано как раз про нас, которые жили, работали и которым некуда теперь идти. Для которых все дороги, кроме как в тюрьму, заперты до тех пор, пока будут эти самые тюрьмы».
Годар, опять присевший от безысходности на диван и открывший от тоски книгу, выхватил наугад скользящим взглядом только этот абзац и – поскорей захлопнул и это дышло. Опять встал, опять заходил по комнате, старательно отводя взгляд от всего на свете, ибо от всего-всего на свете било током – и выхваченный абзац заплясал в мозгу, как брошенная в котел для ухи еще живая рыба.
Эх, рыба-рыба… Рыба… Рыба!..
В пылающем котле-голове на миг образовалась воронка и рыба скользнула в нее. А за ней
– перевернувшейся лодкой – стало опускаться в неведомые глубины сознание.
Перед его мысленным взором предстал прекрасный голубоглазый витязь в странном
старинном мундире, грудь которого пересекала как бы прирученной змеей – шелковая
зеленая лента. Над его главой – скрыто сияло не видимое в полуденный зной – ибо это
была Страна Вечного Полдня . Но сам он был – весь разбит: разбит на осколки. Но и в
таком – расколотом – виде он представлял опасность для пятящегося от него к некому
безымянному озеру дракону. Он предлагал этому дракону страшно что – пройти
сожженной дорогой. А дорога та – была дорогой Фаэтона, с которой тот упал палящей
звездой после того как кони понесли его, испугавшись Скорпиона. Юноша со
змеящейся зеленой лентой и был Фаэтоном.
Только все принимали его за целителя Асклепия.
И просили у него яда.
Ведь Асклепий поднимал со смертного орда безнадежно больных и даже мертвых
воскрешал – ядом своей пригревшейся у чистого сердца зеленой змеи.
Но чего-то не хватало Асклепию и его доброму Змею.
Фаэтону-Асклепию не хватало его друга Кикна-Хирона, а доброму зеленому Змею –
его белого друга Змея.
У Годара ком подступил к горлу, когда он припомнил отдельные мгновения волшебного
сна, который приснился под утро. Он готов был опрометью бросится навстречу этому
прекрасному юноше, от которого исходило спасительная прохлада, и не потому, что в
ней можно было спрятаться, как под крылом, от кошмара зноя, а потому, что в груди
растеклась такая жгучая нежность, такой восторг, что с ними было не совладать.
Но юноша, взглянув на него, побледнел, а обоюдно выступившие на глаза слезы тоски и
неведомой вины – затмили им обоим очи.
И сон тут же ускользнул.
Закрыв лицо руками, Годар чуть не заплакал.
«Спокойно… – сказал он сам тебе, – Ну же… Ведь это только сон. Ничего не случилось».
Ничего не случилось. Кроме того, что он осознал, как он одинок – ведь ничего не
случилось, не случалось, и, по-видимому, уже никогда не случится.
Развернув ладони, он попытался ощупать ими воздух и найти в нем хоть силуэт этого
неведомого друга. Хоть щель, через которую можно если не пройти, то хотя бы
ненароком взглянуть – одним глазом.
Что он хотел увидеть?
Он и сам не знал.
Но слезы так и полились.
И чтобы прекратить истерику, он принужден был вскочить и опять заходить по комнате.
… Все это, резко обострившись, преследовало его, то усиливаясь, то временно отступая,
чтобы обрушиться с еще большей силой, уже несколько лет. С тех пор, как он
вернулся из Москвы, куда с трудом вырвался из Грузии, где почти не осталось
русскоязычного населения, по годовой туристической визе, с трудом собрав на нее
деньги на разных непосильных для его здоровья временных работах – типа продажи
на улице книг, газет и сигарет.
Он ехал к Рите – любимой девушке.
И – к Москве, которую считал по наивности, что бы о ней не говорили скептики и чего бы
не видели его собственные глаза в его прежние проезды через этот город во времена
ранней юности – некими вратами в душу России.
России ему не хватало вблизи с детства и он ее, может быть, в силу этой физической
оторванности, по-сиротски идеализировал.
Так уж вышло, что к своим перевалившим чуть за сорок годам он по-прежнему жил в
Грузии – одиноко, в двухкомнатной квартире на окраине Тбилиси, вместе с матерью-
пенсионеркой. И трудно было сказать, кто из них был более пенсионером – еще
моложавая, деятельная, хоть и болезненно-мнительная, наделенная ипохондрическим
характером мать, или он – с его вечной вегето-сосудистой дистонией, периодическими
подъемами давления и мигренями в правой стороне головы, с его непонятной
слабостью, причины которой врачи не нашли, с его, наконец, неврозом, включавшим в
себя обострявшуюся при малейшем утомлении или даже простых физических
нагрузках – жгучую тревогу… Нет, невозможно было без содрогания задумываться
про эту свою беду, случившуюся с ним еще смолоду, смиряться с которой он так и не
научился.
Она началась за пару лет до распада Союза, когда он еще был студентом филфака
тбилисского университета. И трудно найти ее причину – в тот год он начал заниматься
хатха-йогой, читать эзотерику, слушать, старательно давя иронию и скепсис
прирожденного материалиста – то, что рассказывал на занятиях учитель о
реинкарнации. И – как ему казалось – шел в гору. Как вдруг, во время летней поездки
в Латвию – он сорвался с этой горы как в глубокую шахту с черной водой.
Он просто однажды покачнулся на улице и стал падать, лишаясь огненно-влажной силы
жизни, как падает надломленный цветок. И – погружаться всей своей молодой силой,
буйной и сочной, как у маков и подсолнухов, взыскующей непрерывного солнца и
прозрачного, синего воздуха с носящимися в нем стрекозами и мохнатыми шмелями –
как в пучину черной воды, на которой покачивался соляным скелетом тающий серп
Луны.
Он и до того не любил сырого климата, болотистой местности, чахлых, тонущих в туманах
деревцев, испытывая при одном взгляде на них – потребность протянуть руку и
вытащить их из этой хляби. И – не умел наслаждаться больше месяца ровным,
красиво убранным городом Ригой, его неоспоримым спокойствием и безупречным
комфортом.
А потом эта комфортная для многих других, но не для него, темная прибалтийская влага,
смешавшись с впитавшимся в его кожу сероводородом, превратилась в яд для его
организма.
Он принимал сероводородные ванны и грязи просто для того, чтобы стать немного
спокойней. В профилактических целях, чтобы не болели иногда ноги из-за
преходящих спазмов сосудов. Спазмы же случались просто в силу лабильности его
нервной системы.
В известный санаторий под Юрмалой, куда его устроила по курсовке жившая в
Тукумсе в военном городке вместе с мужем-подполковником тетя, он приезжал только
для того, чтобы принять процедуры и, отобедав в столовой, отправлялся бродить по
холодному балтийскому пляжу.
Там однажды он и упал в обморок.
Но когда врач скорой помощи, впрыснувший ему под кожу кордиамин, вежливо
объяснив ему, что «это просто погода», бесшумно удалился – Годар, вернувшись в дом
тети, остался один на один со стоячей латвийской тишиной. С этой тишиной он с
непривычки не мог освоиться с самого приезда, коротая белые ночи за ставшими
вялыми и дремотными думами – в словно опустошенной здешним климатом голове.
Но теперь тишина еще и пугала его.
Не свойственное ему до того чувство постоянной, безотчетной тревоги отныне
скапливалось внутри так же неизбежно, как скапливается в расщелинах дождевая
вода.
Позже он припомнил, что принимал сероводородные ванны не 15 -20 минут, как это
полагается при лечебных процедурах, а, по халатному недосмотру медсестры,
забывшей сказать об отмеряющих время песочных часах, что стояли рядом на
табурете – не меньше чем по часу. А потом еще долго сидел в пропахшем парами фойе
санатория за чтением газет. К тому же он принимал еще и лечебные грязи, и там его
тоже однажды – случайно «передержали».
Уехав через несколько дней в Ленинград, куда прилетел из Тбилиси друг, с которым они
условились провести здесь конец августа, он обнаружил, что не может смотреть в
черные воды Невы. И на весь этот застывший призраком между неподвижным низким
небом и суровой, загнанной в гранит рекой город – он тоже не мог смотреть прямо. И
– вынужден был жаться к обочине проспектов и улиц, невольно переходя на
сбивчивую, странно замедленную, как у сновидцев, походку.
Походы по Эрмитажу и особенно Кунсткамере окончательно подрубили его.
С ужасом смотрел он на собранные со всего света мумифицированные трупы
бессловесных живых существ, которых старательно убивали и консервировали в
колбах ученые. Этот ноев ковчег вызвал у него такую тоску, боль и неудобство за
людей, водивших сюда своих детей, что он опять едва не упал в обморок.
Коллекции Эрмитажа, куда он попал после, показались после Кунсткамеры – просто
ярмаркой тщеславия и в груди все росла и росла лавиной тревога и боль – непонятная
громада непонятной тревоги.
Пришлось вернуться в Тбилиси досрочно, сорвав отдых и другу.
Но и дома – покоя он не нашел. И года два ходил по врачам, ища причину слабости и
тревоги, пробуя самые разные средства от этой так и не найденной никем причины.
Пока не приноровился жить как в клещах.
Эта жизнь в клещах и не позволила ему переехать в Россию, обзавестись семьей и
постоянной работой.
Собственно говоря, внешняя жизнь оказалось для него смолоду как бы за порогом
досягаемости.
А ведь он не разделял до этой катастрофы ее – на внутреннюю и внешнюю.
Не лишенный внутренних богатств, он смело выстраивал по ним и жизнь внешнюю. И –
надеялся пройти по ней достойно, с несильно запятнанной совестью.
Но все внешнее – оно как отвалилось.
А внутреннее – пошло кувырком.
«– Я вас знаю, – после легкого колебания сказала она. – Вы Лбов. – Я Лбов, – ответил он, – а я вас не знаю, – он посмотрел на тонкую, теплую, плотно охватившую ее фигуру фуфайку, на мягкие фетровые бурки и добавил: – А я не знаю и знать не хочу.
Зигзагообразной складкой дернулись губы девушки, она откинула голову назад и спросила: – Вы невежливый? Я Рита… Рита Нейберг.
– А мне наплевать, – ответил он, – и вообще, на все наплевать, потому что за мной гонятся жандармы.
Он сильным толчком выпрямил сжатые руки, и лыжи врезались в гущу кустов. Еще один толчок – и он исчез в лесу…
– Сволочь, – сказала Рита в бешенстве, – взял лыжи и хоть бы спасибо сказал… И кого это он убил?.. Даже двух.
Пересиливая отвращение, она с любопытством заглянула за сани. – Барышня, – окликнул ее вдруг кто-то из сугроба, – барышня, он уже ушел?
«Один не умер еще», – подумала Рита и подошла к Чебутыкину. – Он ушел?
– Ушел, ушел, – ответила она, – а вы ранены?
– Нет, я не ранен, а так.
– То есть как это так? Чего же вы тогда дураком лежите в сугробе? – крикнула Рита. – И как это вам было не стыдно: вдвоем с одним справиться не могли? Чебутыкин забарахтался, выполз из сугроба и, стараясь вложить в слова некоторую убедительность, сказал ей:
– Мы и так сопротивлялись, но что же мы могли?..».
«– Тоже Рита…», – тоскливо подумал Годар, рассеянно скользя взглядом по книге, а точнее, как бы поверх нее – так, чтобы нельзя было вчитаться повнимательней, присмотреться к деталям. Все детальное стразу становилось слишком ярким, выпуклым и, задерживаясь на нем, можно было внутри каждой детали обнаруживать еще более мелкие, составляющие ее, деталь, детали и черточки. А этого было слишком много и переполняло восприятие, отчего тревога усиливалась. И если не внять ее сигналам и вовремя не остановиться, то дальше будет хуже – возникнет паническая атака. А он и без того постоянно глотает фенозепам.
Но если не вестись на детализацию, а скользить немного мимо, как бы по обочине текста, почти не встречаясь с ним глазами, не погружаться в него, то обостренное восприятие все равно снимает свою информацию. Но не из букв, а из некой исходящей от них световой дымке, по ощущениям от которой он понимал, стоит ли читать книгу. Потому что бывало, что дымки-то совсем и не было в большинстве книг. В некоторых – она был серой, как грифель просто карандаша. А в некоторых – пепельно-серой или огненно-черной – это уже можно было читать. А откуда-то – лился голубоватый дымок, какой можно увидеть, например, взглянув на рассвете на сосны. Или лилово-ягодный, похожий на фруктовое мороженное. Что было бы ему сейчас, в его огненной геене – как глоток родниковой воды. Или, во втором случае – как пара ложек мороженого. Это могло дать хотя бы минутный отдых. Всего же лучше – были дымок золотой и дымок белый. И вот последний – то и раскидывался Радугой.
А Радуга была уже чудом, про которое он помнил и тосковал всегда.
Собственно, с Ритой они и познакомились на Радуге.
Это был 2003 год.
Он узнал из интернета, что в июле в России, в Республике Мариэль, на реке Большая Кокшага близ столицы соседней Чувашии Чебоксары – состоится ежегодный слет-фестиваль хиппи.
Это движение, про которое он знал из книг, издавна импонировало ему. И хотя ему было уже 36 лет, Годар, поставив громадным усилием воли свою тревогу под особый контроль – поехал.
Даже мать не позволила в предотъездные дни произнести ни одного возражения и бодро шутила, провожая его на вокзале. Старательно обходя медицинскую тему – мать надеялась в глубине души на чудо – вдруг жизнь его, наконец, как-то переломиться и устроится.
А он потом – словно плыл по реке на плоту, как Гекльберри Финн. Мелькали города и деревни, люди. Он пересаживался с поезда на поезд, с автобуса на автобус, шел с рюкзаком по лесу, приглядывался, блажено щурясь, к березам, ложился в траву на песке – чувашские и мариэльские леса в направлении его движения стояли на почве, перемежающейся с белыми песками – и глядел в лазурное небо.
Пока не пришел вместе с появляющимися как ниоткуда из разных концов леса – веселыми, необычно одетыми людьми со свернутыми в рулоны туристскими ковриками на рюкзаках – к искрящейся рябью спокойной реке, за которой сквозь густой лес виднелись палатки и какое-то движение, смех и песни, словно там стоял табор. – Здравствуй, Радуга! – вдохновенно прокричали его незнакомые спутники и, скинув обувь и одежду, подняв рюкзаки на головы, пошли на тот берег вброд. Годар несколько замешкался, так как не решился с такой невинной легкостью скинуть трусы. Но какой-то добрый человек – абсолютно раздетый человек – помог ему. Широко улыбаясь, он замахал ему с того берега и, самоотверженно войдя в реку, взял у него рюкзак и переправил на своих могучих плечах.
– Доброе утро! – сказал человек Годару, и, поклонившись, тут же ушел. Неуклюже перешедший за ним след в след на заветный берег Годар отжал трусы и пошел устраиваться.
И надо было торопиться, так как назревала гроза – небо обложили внезапно возникшие тучи и некоторые радостно протягивали к нему руки и пританцовывали. Большинство же других, – они располагались полукругом вокруг костров с двумя котлами, в одном из которых непрерывно варился зеленый чай, либо сидели с дымящимися кружками, либо натягивали тенты над кострами и поправляли пленки на разбросанных, как грибы, в нескольких метрах от костра палатках. Кто-то играл на гитарах, кто-то – подыгрывал гитаристам на самодельных дудках, а где-то – стучали в барабаны и звенели бубнами. Кое-где звучали, повсюду достигая до слуха, изящные напевы флейты. Здесь была в основном молодежь – от пятнадцати до тридцати лет. Но встречались и сверстники Годара, и даже люди постарше – позже он обнаружил в лесу двух величественно прогуливающихся бабушек и одного белобородого деда. А еще здесь были дети самих Детей Цветов, – не исключая самых маленьких, еще не говорящих. Они бегали и бродили по всему лагерю и некоторые терялись, но кто-то, взяв за руку этих голышей, находил их родителей и вся семья, часто тоже голышом, принималась за трапезу.
– Пипл, – сбор!.. Передавайте там по цепочке – ужин готов! Пора собираться на Собрание!
Неторопливо подхватывая миски с ложками, не сразу и не скопом, люди задвигались, появляясь из множества пересекающихся троп, в одну сторону – туда можно было идти двумя или тремя параллельными реке уже хорошо протоптанными в песке тропами – или пробираться без троп.
Годар достал свою миску, оставив рюкзак лежать среди кучи рюкзаков тех, кто только что прибыл, и с любопытством вступил на тропу.
Некоторые обгоняли его, некоторые брели так медленно, что их обгонял он. А некоторые почему-то уже шли обратно. Иные – неожиданно выныривали из кустов. Но почти все, кроме тех, кто просто не хотел этого и добродушно присматривался к происходящему или был погружен в какие-то свои мысли, слегка поклонившись, говорили друг другу: «С Добрым Утром!». Такая на Радуге была традиция. Эти два слова заменяли приветствие в любое время суток – их произносили, встречаясь, вместо нежных прикосновений, а, иногда и, если люди были уже хорошо знакомы, и вместе с ними, часто даже совсем незнакомые люди и тут же шли дальше.
Долго ли коротко – он не замечал времени – Годар вышел на священное место Радуги, которое называлось Кругом.
Это была большая светлая поляна, в центре которой горело неугосимым огнем Сердце Радуги – костер в огромной яме, в которую все время кто-нибудь из добровольцев подносил из леса сухостой. Для этого даже не требовалось устанавливать дежурство –
всем хотелось подойти к Сердцу, немного, а иногда и долго постоять или посидеть рядом с ним, а потом отправиться в лес и принести ему в благодарность найденную ветку. У Сердца всегда сидели или стояли люди. Но их – сошедшихся на этом месте одновременно – было немного. Остальные располагались нестройными группками или в одиночку по всей поляне – так, чтобы это было действительно похоже на Круг. Поставив у ног миски, все шутливо переговаривались, или так же, как и у своих костров, поигрывали на гитарах, дудках, флейтах и барабанах. Некоторые лежали. Но большинство сидело со скрещенными ногами.
А на легчайшем ветерке – подрагивало на высоченном древке-шесте– Знамя Радуги: широкое семицветное полотнище из чистого шелка. Годар тоже захотел присесть, но все уже по какому-то сигналу принялись подниматься и, взявшись за руки, сомкнулись вокруг Сердца огромным широким Кругом. Музыка и говор смолкли и, прикрыв глаза, люди запели мантру ОМ. Он тоже стоял в цепи и пел вместе со всеми, хотя этот ритуал и ничего не говорил ему, несмотря на то, что о звуке ОМ он отдаленное представление имел. После чего цепь рассыпалась и большинство, поцеловавшись со стоявшими рядом спутниками, тепло сказав им "Спасибо", стало опять рассаживаться.
Пожалуй, он не сумел сосредоточиться на звуке, потому что его все увлекало и завораживало – лица и разговоры, необычные одеяния и даже, увы и ах, непривычно обнаженные загорелые бедра девушек, – последнее он перестал замечать уже на следующее утро, ведь абсолютно обнаженных людей на Радуге было не меньше трети и все эти малодоступные прежде глазу прелести уже не вызывали любопытства.
А к центру Круга между тем прошествовал молодой светлоглазый парень с редкой волнистой бородкой. Тонкие его волосы пшеничного цвета, слегка колыхаясь на ветру, ниспадали волнами на накидку, которой служила, как и у некоторых других, белая простыня. Он тоже был первозданен, как Адам, и держал в руке похожую на посох палку. Когда он поднял эту палку над головой, все быстро притихли и парень заговорил. Он говорил негромко, но каждое слово было отчетливо слышно, хотя речь его сопровождали веселыми ручейками разного рода озорные реплики и шутки, в избытке доносившиеся от сидевших и лежавших на траве слушателей.
– Доброе утро!.. Сердце Радуги горит уже третьи сутки и люди Радуги все прибывают. Вот и сегодня появилось много новых лиц. И для начала я хочу рассказать тем, кто еще никогда не бывал на Радуге – про ее правила.
– Илу, чуть помедленней!.. Ты гонишь!..
– Да, Илу, не забывай, что мы тебя в командиры не выбирали!.. – Я знаю, что на Радуге нет и не может быть командиров. Но кто-то же должен… В общем, вот что я хочу сказать вам… Народ, я люблю вас!.. Добро пожаловать в царство красоты и свободы! Здесь вы можете делать все, что захотите – все-все. В том числе – ничего не делать: к примеру, просто спать, зарывшись в песок. Или следить за облаками… Или, напротив, носиться с гримасами по лесу. Скакать на одной ноге… – И даже – скакать без ноги!
– Да, я помню, нижегородцы, что ваша стоянка называется «Без ноги»… В общем, я хочу сказать, что можно все. Кроме нескольких маленьких добровольных самоограничений. Они такие приятные, что доставят вам массу удовольствий!.. Это запрет на то, чтобы кого-то осуждать и кому-то досаждать. Он такой радостный, что я ликую, видя, как многие горячо желают его исполнить… Да-да, нижегородцы, наперегонки, даже если кто без ноги… В общем… Все остальное, чего нельзя, и того легче. Нельзя есть пищу из трупов, пить алкоголь и зачем-то колоться, оставлять в прекрасном заповедном лесу мусор – даже фантики от конфет и уж тем более окурки – для этого есть специально выкопанные ямы. Перед отъездом мы сожжем в них мусор, а ямы закопаем. И другие ямы тоже закопаем, которые сами понимаете для чего… А еще здесь не рекомендуется пользоваться часами – во всяком случае, носить их на руке. Запомните: времени – нет! То есть оно, свободное, есть всегда!.. Ну вот, кажется, и все, что я хотел сказать новичкам… Да, вот еще что – на Радуге нельзя заниматься коммерцией – что-то продавать и покупать. Зато дарить и обмениваться – можно всем чем угодно!
– Даже любимыми людьми!
–Да, даже любимыми!.. Например, буддийские монахи… – Тоже занимались свободной любовью!..
– Ну, можно и так назвать любовь между братьями. Только уверяю тебя, Большой Змей, что для начала они обуздывали язык.
– Ты забыл про фонари – про то, что нельзя их включать по ночам, дабы не узреть некое разбитое на пары безобразие под звездным небом.
– Да, это, пожалуй, самый трудный из запретов…
– Ха-ха-ха!..
– Но иногда мы, как люди слабые, обходим его. Бывает, что надо посветить в темноте в палатке, что-то ища. Ну, можно иногда посвечивать себе фанариком и когда прокладываешь ночью спросонья дорожку к ближней яме. Особенно это касается наших дам… Но в целом ко всем большая просьба – не включайте вы, бога ради, ничего электрического. Мы не используем на Радуге даже электрогитары и любые другие приборы. Зачем пугать Мать-Землю?.. К счастью, мобильники отпадают сами собой – здесь не ловит мобильную связь. Зато можно развить взамен телепатические способности… Но если кто очень захочет позвонить маме, – может влезть на верхушку вон той сосны – кажется, там все-таки ловит.
– А электричество, милый командир Илу, который совсем не командир, на нас сейчас с неба посыплется.
– Об этом я и хотел поговорить с вами. Надвигается гроза!.. Надо накрыть все палатки пленками и найти крышу над головой всем, у кого нет палаток – я имею ввиду только что прибывших, кто приехал налегке и не успел еще ни к кому подселиться. – Илу, этот вопрос решен – я поставил свой шатер и человек двенадцать там поместиться. Беспалаточный пипл, идите к стоянке, которая называется "Большие ленивцы" – спрашивайте по дороге где это и язык до Киева доведет!.. Потом, если захотите, съедете. А пока – милости просим!
– Ну и ладно!.. Передаю Палку-Болталку следующему оратору. У кого еще есть что сказать?..
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе