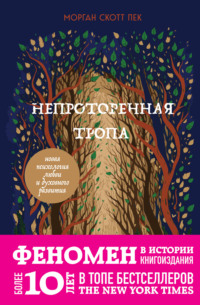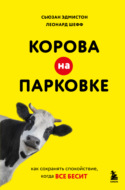Читать книгу: «Непроторенная тропа. Новая психология любви и духовного развития», страница 4
Благотворность депрессии
Период интенсивной психотерапии – это период интенсивного развития, несущего пациенту столько перемен, сколько иные люди не переживают за всю жизнь. Но чтобы такой скачок случился, пациенту предстоит отречься от соответствующей части «прежнего себя». Это неминуемый этап успешной психотерапии.
На самом деле процесс отречения начинается еще до первого сеанса, а именно – когда человеку приходит в голову обратиться к психиатру. Тем самым он признает, что у него есть существенная проблема, с которой не справиться самостоятельно, а значит, отрекается от собственного имиджа «Я-в-норме». Мужчинам это дается с большим трудом, для них заключение «Я не в норме» чаще равноценно «Я слабак» или даже «Я не мужчина».
Наиболее распространенная причина, побуждающая человека задуматься о психиатрической помощи, – депрессия. Не всегда понимая причину своего состояния, такой пациент приходит в надежде получить облегчение от симптомов депрессии, «чтобы все было как прежде». Вот только «как прежде» уже не будет, ведь депрессия возникает как реакция на уже запущенный процесс отречения от чего-то любимого или от какой-то привычной части себя.
Поскольку в течение жизни любой душевно здоровый человек периодически теряет часть прежнего себя или отказывается от нее, депрессия – нормальное и по существу своему здоровое явление. Ненормальным и нездоровым оно становится в том случае, когда что-то мешает процессу отречения, задерживает его, не дает завершиться.
Таким образом, задача врача – помочь пациенту завершить процесс развития, который уже начался. Причем пациенты редко осознают происходящее, поскольку процесс развития и отречения начинается на подсознательном уровне. Поэтому человек будет говорить, что не знает, откуда у него депрессия, или припишет причину второстепенным факторам. Не осознает и того, что данное состояние – сигнал о необходимости больших перемен, без которых дальнейшее развитие невозможно.
Некоторое время назад очень модным стало выражение «возрастной кризис». На самом деле в жизни человека существует несколько критических этапов развития. Фрейд выделял пять, а Эрик Эриксон – восемь. Возможно, их даже больше.
Суть в переходе на другой уровень возрастного развития, который может быть весьма болезненным из-за необходимости отречения от привычных понятий, взглядов, стереотипов поведения. Многие люди не готовы терпеть эту боль и потому цепляются – иногда до конца жизни – за старые взгляды и шаблоны поведения. Тем самым они лишают себя возможности преодолевать кризисы, расти и развиваться, испытывать радостное чувство нового рождения, которое всегда сопутствует успешному переходу к новому этапу зрелости.
Я приведу список (на самом деле, по каждому пункту можно написать целую книгу) важнейших условий, желаний и отношений, от которых необходимо своевременно отрекаться, чтобы жизнь развивалась успешно:
1) раннее детство, когда ни на какие внешние требования можно не реагировать;
2) детские фантазии о собственном всемогуществе;
3) желание полного обладания (включая сексуальное) одним из родителей (или обоими);
4) детские зависимости;
5) искаженные представления о родителях;
6) всемогущество отроческого периода;
7) «свобода» необязательности;
8) энергия и ловкость юности;
9) сексуальная привлекательность молодости;
10) фантазии о бессмертии;
11) авторитет и власть над собственными детьми;
12) различные формы временной власти;
13) физическое здоровье;
14) и, наконец, сама жизнь.
Отречение и новое рождение
Боль отречения – это страх перед смертью, но рождение нового невозможно без смерти старого. Отрекаясь, мы выигрываем больше. Самый яркий пример – дисциплина вынесения за скобки, прекрасно описанная теологом Сэмом Кином в книге «К танцующему Богу»:
«Чтобы осознать, что предстает передо мною, я должен сделать над собой два усилия: (1) заставить замолчать привычное и (2) пригласить войти странное. Сталкиваясь с незнакомым объектом, лицом или событием, я каждый раз подвергаюсь искушению определить его через призму сегодняшних нужд, прошлого опыта и ожиданий на будущее.
Чтобы по-настоящему оценить уникальность новой информации, я должен со всей ясностью осознать свои предвзятые суждения и на некоторое время вынести их за скобки, чтобы пригласить в мой мир странность и новизну. Эта дисциплина работы со скобками, уравновешивания, установления тишины требует мужества, честности, глубокого и тонкого знания своей души. Без этой дисциплины каждый момент настоящего оказывается всего лишь повторением чего-то уже виденного или пережитого.
Чтобы во мне возникла подлинная новизна, чтобы уникальное явление вещей, личностей или событий пустило во мне корни, я должен подвергнуть мое эго децентрализации».
В заключительной части поэмы «Путешествие волхвов» Томас Элиот описывает страдания Трех Мудрецов, принимающих христианство и отрекающихся от прежнего мировоззрения:
Все это было давным-давно, я помню,
И я проделал бы все это еще раз, но скажи на милость,
Вот что скажи,
Вот что: вело это нас – вся эта дорога –
К Рождению или к Смерти? Это было Рождение, несомненно,
Я сам свидетель. Но я видал рожденье и смерть
И считал, что это разные вещи; то Рождение было
Долгой, невыносимой агонией, как Смерть, наша смерть.
Мы возвратились к себе, в эти царства.
Но что теперь делать здесь, на старой свободе,
Среди чужого народа, цепляющегося за своих богов.
Скорее бы другая смерть2.
Совершенно очевидно, что жизнь представляет собой череду одновременных смертей и рождений. «Всю свою жизнь человек должен учиться жить, – сказал Сенека две тысячи лет назад. – Но, что еще более удивительно, всю жизнь человек должен учиться умирать». Получается, чем дальше человек идет по жизненному пути, тем больше смертей и рождений переживает. Больше боли – и больше радости.
В связи с этим возникает вопрос: возможно ли когда-нибудь освободиться от эмоциональных страданий? Станет ли с возрастом меньше боли? Ответ на этот вопрос – и да и нет. Да – потому что принятое страдание в некотором смысле перестает быть страданием, а принятию можно научиться. Да – потому что многие вещи, которые для ребенка кажутся настоящим горем, покажутся пустяком для взрослого.
И нет – потому что, чем более духовно развит человек, тем более осознанно он принимает решения, а процесс принятия решений с полным осознанием обычно оказывается бесконечно болезненнее, чем принятие решений с ограниченным или притупленным осознанием.
Для примера возьмем двух генералов, каждый из которых должен решить, посылать ли в бой десятитысячную армию. Для одного это просто количество, стратегическое орудие и не более. Для другого – это десять тысяч жизней и десять тысяч семей, которые могут потерять близкого человека. Кому из них будет легче? Конечно, первому генералу.
В таком случае хочется воскликнуть: «Не может духовно развитый человек быть генералом армии!» А президентом? Врачом? Неужели принимать решения, влияющие на жизнь других людей, следует только первым – людям с притупленным сознанием и отсутствием сострадания? Конечно нет. Это должны быть люди, готовые больше других страдать из-за своих решений, но все же сохраняющие способность принимать их. Способность страдать – возможно, лучшая мера величия человека. Однако нельзя забывать, что «великий» означает и «радостный», как бы парадоксально это ни звучало. Буддисты словно не знают о страданиях Будды; христиане забывают о радости Христа.
Если вы поставили себе цель избегать боли и страданий и в то же время достичь духовного развития и высших уровней сознания, вам это не удастся. Во-первых, второе без первого невозможно. Во-вторых, если вы их достигнете, то будете призваны к служению, которое окажется более мучительным или, по крайней мере, потребует большего, чем сейчас вы можете себе представить.
Зачем тогда вообще стремиться к развитию, можете спросить вы. Если вы задаете этот вопрос, значит, скорее всего, плохо знаете, что такое истинная радость. Возможно, вы найдете ответ, прочитав книгу до конца. А может, и нет.
И последнее, что я хочу сказать о дисциплине уравновешивания и ее сущности – отречении: нельзя от чего-то отречься, если у вас этого нет и не было. Если вы отрекаетесь от игры, никогда не выигрывая при этом, то остаетесь тем же, кем и были, – аутсайдером. Чтобы отречься от личности, нужно прежде стать ею. Вы должны развить эго, прежде чем потерять его.
Можете упрекнуть меня в банальности, но я считаю не лишним этого повторить, потому что знаю многих людей, у которых достаточно воображения, чтобы представлять себе эволюцию, но не хватает воли, чтобы ее осуществить. Они хотят – и верят, что смогут, – избежать дисциплины и найти легкий, кратчайший путь к святости.
Я определил дисциплину как систему техник, ориентированных на преодоление боли при конструктивном решении проблем – вместо ухода от этой боли – таким образом, чтобы жизненные проблемы разрешились. Я выделил и подробно описал четыре основные, тесно взаимосвязанные техники: отсрочку удовольствия, принятие ответственности, верность правде или реальности и уравновешивание. Настолько тесно, что иногда их трудно отличить друг от друга.
Сила, энергия и готовность использовать техники подпитываются любовью, о которой мы будем говорить в следующей части. Данный анализ техник – не истина в последней инстанции, и, возможно, я пренебрегал некоторыми другими. Хотя все же думаю, что нет. Разумно спросить, являются ли такие процессы, как биологическая обратная связь, медитация, йога и психотерапия, методами дисциплины. На это я бы сказал, что они являются техническими помощниками, а не базовыми техниками. Как таковые, они могут быть весьма полезными. Если практиковать эти техники добросовестно и неустанно, они смогут обеспечить ученику восхождение на более высокие духовные вершины.
Часть II. Любовь

Что такое любовь
В предыдущей главе мы говорили о дисциплине как средстве духовного развития человека. Теперь поговорим о том, что лежит в основании дисциплины, питает ее, дает энергию. О любви.
Я прекрасно понимаю, что, пытаясь исследовать любовь, мы заигрываем с великой тайной, собираемся изучать неизучаемое, познавать непостижимое. Любовь слишком сложна и глубока, чтобы ее можно было правильно понять, измерить или описать, пользуясь словами. Я пишу эти строки, потому что верю: попытка стоит усилий, но в то же время определенно знаю, что в какой-то мере она будет неадекватной.
Начнем с того, что никто и никогда, насколько мне известно, не мог дать полного и удовлетворительного определения этому понятию. Чтобы хоть как-то упростить задачу, ее стали делить на категории: эрос, филиа, агапэ; совершенная и несовершенная любовь и т. п. И все же я попробую сформулировать свое определение, хотя, повторюсь, прекрасно сознаю, что оно будет неадекватным.
Итак, я определяю любовь как волю к расширению собственного «Я» с тем, чтобы питать свое – или чье-то – духовное развитие.
Прежде чем пойти дальше, прокомментирую это определение. Во-первых, оно телеологическое: поведение в нем определяется через цель (духовное развитие), которой оно намерено служить. Ученые с подозрением относятся к телеологическим определениям; вероятно, и мое постигнет эта участь. Но я пришел к нему не путем телеологических размышлений, а через многолетние наблюдения (в том числе и самонаблюдения) в своей клинической практике. Определение любви исключительно важно в работе психиатра, поскольку пациенты зачастую весьма путано представляют себе природу любви.
Например, один робкий молодой человек рассказал: «Моя мать так сильно любила меня, что никогда, до самого выпускного класса, не позволяла ездить в школу на автобусе. Она боялась, что по дороге со мной может что-то случиться, и поэтому отвозила и забирала на своей машине, хотя из-за этого ей часто приходилось отпрашиваться на работе. Даже взрослым я всегда спрашивал у нее разрешения выйти из дому. Она действительно любила меня».
Из подобного опыта у меня накопилось множество примеров того, что является любовью, и того, что ею только кажется. Одно из важнейших различий между этими двумя категориями поведения – осознанная или неосознанная цель у любящего (или нелюбящего).
Во-вторых, можно заметить, что в моем определении любовь оказывается странным замкнутым кругом: процесс расширения себя – это уже эволюция, развитие. То есть человек развивается даже тогда, когда развивает кого-то другого.
В-третьих, это определение включает любовь к себе наряду с любовью к другим. Мы не можем любить другого, если не любим себя. Не можем научить детей самодисциплине, если не обладаем ею сами. Не можем пожертвовать собственным духовным развитием ради развития кого-то другого. Не можем быть источником силы, если не воспитываем силу в себе.
В-четвертых, расширить пределы можно, лишь преодолевая, ломая их, и эта ломка невозможна без усилий. Когда мы любим кого-то, наше чувство становится зримым и реальным только через усилие: ради любимого мы совершаем дополнительный шаг или преодолеваем лишнюю милю. Любовь не безмятежна; наоборот, она наполнена действием.
Ну и в-пятых, я употребил в определении слово «воля», чтобы стереть границу между желанием и действием. Желание не всегда переходит в действие. Воля – это желание достаточно интенсивное, чтобы перейти в действие. Каждый человек в той или иной мере желает любить, но в реальности не у всех получается. Из этого я делаю вывод, что желание любить – это еще не сама любовь. Любовь есть, когда человек действует. Любовь – это акт воли, совокупность намерения и действия. Воля – это еще и выбор. Мы не обязаны любить – мы сами выбираем, делать это или нет.
Как я говорил выше, пациенты, которые приходят к психотерапевту (и не только они), часто путаются в понимании природы любви. Мне кажется, многих страданий можно было бы избежать, научив людей точнее определять любовь, – это значительно уменьшило бы количество столь распространенных заблуждений. Поэтому начинаю исследование природы любви с определения того, что не есть любовь.
Влюбленность – это не любовь
Большинство людей ошибочно полагают, что влюбленность – это тоже любовь или по меньшей мере одно из ее проявлений. И действительно, влюбленность субъективно переживается так же ярко, как и любовь. Влюбленный человек выражает чувства словами «Я ее (его) люблю». Так в чем же разница?
Во-первых, влюбленность – это сексуально ориентированное, эротическое переживание. Мы не влюбляемся в детей или друзей одного с нами пола, при этом можем очень любить их.
Во-вторых, влюбленность всегда быстротечна. Рано или поздно она проходит, даже если отношения продолжаются. Медовый месяц не может длиться вечно.
Чтобы понять феномены влюбленности и ее неизбежного конца, необходимо исследовать природу того, что психиатры называют «границами эго».
В первые месяцы жизни новорожденный не видит различия между собой и остальным миром. Когда он двигает руками и ногами, ему кажется, что двигается весь мир. Когда он голоден, то и весь мир голоден. Когда его мама поет, он не знает, что поет не он. Он не отличает себя от кроватки, комнаты, родителей. Одушевленные и неодушевленные предметы – все одно целое. Нет различия между «ты» и «я», между «я» и миром. Нет личности.
Но со временем малыш замечает: когда он голоден, может пройти время, прежде чем мать покормит его. Иногда, когда ему хочется поиграть, мама зачем-то принимается укачивать его. Ребенок понимает: его желания не управляют мамой. Так, через взаимодействие, у него начинает развиваться чувство «себя».
Давно замечено, что, если это взаимодействие сильно искажено – например, когда нет матери, нет надлежащей ей замены или мать из-за собственной психической болезни совершенно не заботится о младенце и не интересуется им, – этот ребенок вырастает с глубоко искаженным чувством личности.
Позже он осознает и другие различия между ним и внешним миром. При его желании двигаться кроватка не двигается, потолок не двигается, двигаются только руки и ноги. Так в течение первого года жизни мы узнаем самое главное: кто есть я и кто есть не я. Это мои руки и ноги, голова, язык, глаза, голос, мои мысли, моя боль в животике и мои чувства. Мы уже знаем свои размеры и физические границы, они являются нашими пределами. Это знание, утвердившееся в рассудке, и составляет сущность границ эго.
Развитие границ происходит на протяжении всего детства, отрочества и даже в зрелом возрасте, хотя чем позже устанавливаются границы, тем более психический (а не физический) характер они носят. Например, в возрасте от двух до трех лет ребенок обычно выясняет пределы своей власти. Он уже знает, что его желания не всегда совпадают с желаниями матери, но иногда ему все же удается управлять ею. Поэтому двухлетний ребенок часто ведет себя как тиран, пытаясь командовать родителями, бабушками, братьями и сестрами, домашними питомцами. Об этом возрасте родители говорят: «Этот ужасный третий год…»
К трем годам ребенок обычно добреет, с ним легче договориться; это результат признания своей личной относительной немощи. И все же полностью перестать мечтать о всемогуществе не получается, поэтому еще несколько лет ребенок будет периодически убегать в мир фантазий, суперменов и капитанов Марвелов, где он всесилен.
Но к середине отрочества супергерои уходят в отставку, и молодой человек осознает, что он индивид, заключенный в границах своей плоти и в пределах своей власти, сравнительно непрочный и бессильный организм, существующий только благодаря кооперации группы подобных организмов, то есть общества. Внутри между индивидами нет особых различий, но все же в силу личных особенностей и границ они друг от друга изолированы.
Жить внутри этих границ одиноко и тоскливо. Только некоторым людям (психиатры называют их шизоидами) из-за тяжелых, травматизирующих переживаний, перенесенных в детстве, границы дают ощущение комфорта, защиты от опасного и враждебного мира. Но большинство воспринимает одиночество болезненно, мы стремимся выйти за стены собственной личности и слиться с окружающим миром.
Влюбленность как раз и дает нам пусть и временную, но возможность пережить этот опыт. Наши границы эго разрушаются, и мы можем слить свою личность с личностью другого человека. Внезапное освобождение от себя самого, я и любимый (любимая) – одно целое, одиночества больше нет! Все это большинством людей переживается как экстаз.
Переживание единства с любимым человеком – словно отголосок того времени, когда, будучи младенцем, мы были едины с матерью. Когда мы влюбляемся и это взаимно, кажется, будто мы можем преодолеть любые преграды, выдержать любые испытания. Будущее представляется исключительно светлым. В этот момент мы похожи на самоуверенных двухлеток с неограниченной властью над семьей и всем миром.
Но реальность как вторгается в царственные фантазии двухлетнего владыки, так и не щадит идиллию влюбленной парочки. Все чаще и чаще они говорят, хотят и действуют не как единое целое, а как две разные личности. Он хочет заняться сексом, она – смотреть романтическую комедию, обнявшись на диване. Он хочет поменять машину, она – отложить деньги на отпуск. Его раздражает, что она часами висит на телефоне с мамой, ее – его пятничные походы с друзьями в бар. В конце рабочего дня ему хочется поиграть в компьютерные игры, а ей – обсудить свою перепалку с коллегами.
Постепенно каждый с болью осознает, что никто никому не принадлежит, у каждого были, есть и останутся свои желания, мнения, привычки, предрассудки, планы – отличные от его собственных. Постепенно (или довольно быстро) восстанавливаются границы эго; накал чувств сходит на нет. Две половинки одного целого вновь становятся двумя отдельными индивидами. И дальше начинается либо уничтожение связующих нитей, либо длительный труд настоящей любви.
Хочу подчеркнуть: корни настоящей любви – не в состоянии влюбленности. Часто она возникает там, где влюбленности нет и не было. Чтобы подчеркнуть разницу в природе этих двух явлений, вернемся к определению, которое я дал выше.
Любовь является результатом волевого акта, а влюбленность – нет. Например, можно хотеть влюбиться, чтобы просто пережить это состояние, или же хотеть влюбиться в конкретного человека, которого глубоко уважаешь и с которым близкие отношения были бы во всех смыслах предпочтительны. Но ничего не получится.
Или же, напротив, можно влюбиться в человека, с которым у тебя нет ничего общего, о личных качествах которого ты невысокого мнения. Влюбленность может быть нежелательной и неуместной, например, если объект чувств – супруг близкого друга или пациент.
Это, однако, не означает, что данное состояние не подвластно дисциплине. Те же психиатры, например, сознавая свою роль и долг перед пациентом, обычно не допускают разрушения границ и находят в себе силы отречься от пациента как романтического объекта. Данный процесс бывает мучительно болезненным. Подводя итог: невозможно контролировать влюбленность, но можно – благодаря воле и дисциплине – контролировать поведение.
В отличие от настоящей любви, влюбленность не развивает нас духовно, не расширяет границ и пределов – это лишь частичное и временное их разрушение. И духовный рост, и расширение границ невозможны без усилий, влюбленность же усилий не требует. Недисциплинированные и ленивые люди влюбляются так же часто, как целеустремленные и энергичные.
Влюбляясь (тем более взаимно), мы не испытываем никакой потребности в развитии. Напротив. Мы впервые находимся в мире с собой. Нами восхищаются – такими, какие мы есть. В глазах влюбленного партнера мы совершенство. А если он (или она) замечает отдельные недостатки, то расценивает их как милые маленькие причуды, как некий дополнительный шарм, приправу к отношениям.
Если влюбленность – не любовь, тогда что же это? (Кроме временного частичного разрушения границ эго, как мы уже выяснили.)
Я определяю влюбленность как некую совокупность сексуальных побуждений, вызванную другим человеком, и нашу реакцию на них. Влюбленность повышает вероятность сексуального контакта и таким образом служит выживанию человеческого рода. Эффекта влюбленности многим хватает даже на то, чтобы скрепить себя узами брака. И хотя рано или поздно пелена спадет с глаз, без этого обмана, без этой иллюзии вечного слияния с возлюбленным многие, пребывающие сегодня в законном – счастливом или несчастливом – браке, отступили бы в чистосердечном ужасе перед реальностью супружеского обета.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе