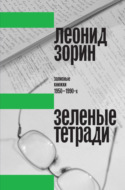Читать книгу: «Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги», страница 6
Книга Юлии Данзас идеально вписывается в философско-религиозное возрождение Серебряного века, подготовленное синкретизмом Владимира Соловьёва: философию (Николай Бердяев) и богословие (Павел Флоренский, Сергей Булгаков) пронизывают гностицизм, теософия с Рудольфом Штейнером и Еленой Блаватской, мистика (Бёме), античные таинства (Вячеслав Иванов, который тоже перейдет в католичество; Дмитрий Мережковский).
В декабре 1913 г., листая свою книгу, Юлия внезапно осознает, что духовно ее переросла; светская жизнь ей опостылела, она мечтает об одиночестве, заполненном исследованиями и медитацией, наподобие жизни средневековых ученых монахов. В январе 1914 г. она приезжает в Зосимову пустынь – маленький монастырь недалеко от Троице-Сергиевой лавры – вместе с Митрофаном Васильевичем Лодыженским (1852–1917), высокопоставленным чиновником, членом Русского общества теософии, другом Л. Толстого; Лодыженский разработал некий философско-религиозно-мистический синтез, прежде чем вернуться в православие, которое он противопоставлял католицизму, хотя с последним был знаком плохо.
Юлия, не испытывавшая никакого религиозного рвения, была поражена, услышав после чисто формальной исповеди, что старец монастыря Алексий31 ей предсказывает «кровавый путь»: «Ты вся в крови, с головы до ног, но это не твоя кровь, ты защищена… Это будет тяжко, о как тяжко! Держись, будет много испытаний, путь труден, кровавый путь. Господь тебя поддержит…» Юлия, которая вместе с Пифагором и Платоном еще верила в переселение душ, думала, что это могло относиться к одному из ее предыдущих существований…
В 1913 г. в письме к С. Сыромятникову М. Лодыженский писал:
«Юлию Николаевну я знаю и книгу ее непременно прочту. Меня интересуют Манихеи, как они согласовывали Зороастра с Христом, интересует как дьявольщина. Книгу я еще не покупал; рассчитываю, что Юлия Николаевна мне пришлет ее. Сама Юлия Николаевна – женщина интересная действительно, но не без гордости, и много ей придется переиспытать [?] и познать, пока гордость эта в ней не перегорит. Но перегореть она должна, ибо инстинкт к добру у нее сильный»32.
«Наедине с собой». Неизданный дневник
Начиная с 1914 г. Юлия ведет дневник, или, точнее, тетрадь размышлений, хранящуюся в архивах ИРЛИ, которого никогда никто не цитировал. Речь идет о переплетенной тетради из 122 страниц большого формата, примерно 40 × 20 см, которую она вела до 1922 года33. Дневник озаглавлен «Наедине с собой», на обложке стоит имя «Юрий Николаев». В нем собраны мысли Юлии о религии и положении дел в России. Этот дневник бесценен для понимания ее эволюции к католическому монашеству, ее отношения к Православной церкви, к вопросам, что она себе задавала, к ее сомнениям. Дневник делится на главы по темам: тяга к смерти, мистика, критика современной Церкви, которая, соблазнившись рационализмом и верой в прогресс, ограничивает свои дела благотворительностью, сводит проповеди к утверждению нравственности и утратила мистический смысл.
В заглавии стоят три эпиграфа: один из «Заратустры»34, другой («Volere aude!») перекликается с высказыванием Канта35, а третий является цитатой из псалма XLI: «Ко мне самому душа моя смятеся…»
Юлия следует за Марком Аврелием, автором «Рассуждений о самом себе» – сочинения, переведенного заново на русский язык в 1914 г. под тем же названием «Наедине с собой»36: «Я живу в полном нравственном одиночестве, и античные мыслители – мои единственные близкие друзья. Ergo – почему же мне не последовать их примеру и не заняться записыванием размышлений, обращенных „к самому себе“, как некогда божественный цезарь Марк Аврелий?»37 (с. 2). Но речь пойдет не о моральных максимах и не о житейских советах:
«Да и что может быть сказано в этом роде лучшего и высшего, чем заветы святых отцов и подвижников Церкви или сентенции Эпиктета и других великих стоиков? […] Но главное, нет у меня охоты разбираться в вопросе: как следует жить? С юных лет тревожит меня вопрос: что такое жизнь? И никакие моральные предписания не дают на него ответа. Вечная загадка жизни и смерти неотступно преследует мое сознание и увлекает за собой в такие туманные дали, где, пожалуй, идея смерти становится ближе и дороже вопроса о сущности жизни»38.
Первые страницы тетради посвящены Смерти. В главе I мы уже видели, как смерть влекла Юлию. Несомненно, мысль о самоубийстве, преследовавшая ее после самоубийства отца, находила опору в стоицизме. Сенека писал Люцилию (Письмо LXX): «В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит. […] Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится – можешь вернуться туда, откуда пришел». Юлия пишет:
«Право на смерть – неотъемлемое право человека, и никакими софизмами нельзя оправдать отрицательное отношение к этому праву. Жизнь дана человеку без его предварительного согласия, и поэтому право на существование отнюдь не может превратиться в обязательство» (с. 8).
Она цитирует «Ангела смерти» Арсения Голенищева-Кутузова (1848–1913), которого Владимир Соловьёв называл «поэтом смерти и нирваны», но который был для Юлии как отец39; она приводит также латинские стихи («Immortalia ne speres, monet annus»)40, цитирует Ницше («Der Gedanke über [an den] Selbstmord ist ein starkes Trostmittel: mit ihm kommt man gut über manche böse Nacht hinweg»)41.
Итак, в 1914 г. Юлию преследует тяга к смерти и продолжают терзать вопросы из «Запросов мысли»: «Мы знаем, что телесная оболочка распадется […] но куда же скроется дух?» (с. 7). Вот как она обращается к Смерти:
«Загадочная красавица, куда влечешь ты меня? что сулит мне твой ласковый взор? Введешь ли меня в иной мир беспечального света и смысла, укажешь ли путь к истинной родине духа, томящегося ныне в оковах плоти, в тоске бездушной и чуждой, постылой жизни? Или в царстве твоем нет понятия о смысле и цели, нет разгадки тревожных сомнений и один лишь покой можешь ты даровать в безмолвной бездне забвения и небытия?» (с. 6).
А в четвертой главе появляется:
«Христианский Бог, Всевидящий и милосердный, „тако возлюбивший мир, яко и Сына Своего Единородного дал миру“. […] Как рвется душа к Нему! Как мучительно хотелось бы верить в Него без тени сомнения, без всякого колебания в уверенности своего религиозного порыва! Как хотелось бы заглушить навсегда голос разума, лукаво нашептывающего о непримиримых противоречиях в понятии о Всеблагом и Всемогущем Творце, создавшем несовершенный мир с его неустранимым злом! […] Но даже в часы унылого сомнения […] как близок и дорог истосковавшемуся духу весь чудный мир христианской мистики, христианской обрядности, с ее дивною символикой!» (с. 9).
Здесь видно, что описано не начало влечения Юлии к христианской мистике, начавшееся гораздо раньше 1914 г., а первые мысли о «религиозном порыве», который, возможно, и был призванием к монашеству, чье осуществление задержат война и революция. Речь идет о порыве, вызванном красотой и величием христианства, несмотря на возражения разума и сомнения о догмах. Но
«Для истинного мистика в этих вопросах не кроется никакого затруднения: „Si Jésus-Christ est Dieu, quelle difficulté y a-t-il pour l’Eucharistie?“42 – справедливо недоумевает Паскаль. […] Для мышления лишь один основной вопрос остается вечно загадочным и мучительно неразрешимым – вопрос о внемирном бытии Божьем и о сотворении Им мира. Только в этом едином вопросе приходится насильственно заглушать голос сомнения, нашептывающего о возможности представить себе мир без Бога, медленную эволюцию мироздания без Божественной Первопричины и без направляющего Промысла Божьего… […] Христианство вместило все лучшее, все возвышенное, когда-либо представшее перед человеческим созерцанием. И в этом смысле права та нетерпимость, которая вне христианства не признает спасения. Ничто не может его заменить для нас, детей оскудевшего духовно века. Стоическая мораль нам чужда: непосильно нам бремя ее строгого величия. Языческий пантеизм слишком широк для нашего слабого мышления; его мистерии окутаны слишком темной для нас символикой. Безнадежная мистика буддизма не мирится с нашим миросозерцанием и его исканием активной самодеятельности» (с. 10, 12).
Именно благодаря изучению истории религий Юлия увидела в христианстве завершение и синтез всех стремлений и предчувствий античности. Для них «христианство нашло дивные выражения и облекло их в чудный покров своей обрядности» (с. 12). Юлия завершает главу четвертую таким парадоксом: «Христианский Бог порою так далек… Но христианская мистика так близка в своем всеобъемлющем величии…» (с. 13).
В пятой главе содержатся размышления о мистике, которую нельзя смешивать с религией: «Мистика вполне отделима от религии. Но религия без нее – мертвечина» (с. 13):
«Паскаль был мистиком и поэтому даже в своих религиозных сомнениях является образцом истинно религиозного человека. Толстой был лишен всякого мистического чутья, и потому его плоское, утилитарное Богоискательство не имело даже отдаленного сходства с религией и могло быть сочтено за религиозный порыв лишь в наше безверное, духовно нищенское время, утратившее всякое понимание религиозного чувства.
Мистиками могут быть даже атеисты, как, например, Шопенгауэр, Ницше, Геккель. Ибо мистика есть свойство духа, а не рассудочное влечение» (с. 13–14).
«Мистика – сознание близости Неведомого, ощущение родства с вечностью» (с. 14). И лучше всего это выразил мистик-атеист Ницше: «Denn ich liebe dich, oh Ewigkeit!»43
В шестой главе Юлия передает ответ митрополита Платона44 на вопрос Александра III о том, почему русский народ покидает Церковь и уходит в штундизм (секта протестантского происхождения, распространенная на юге России, в которой люди жили трудолюбивыми, трезвенными общинами): «Народ ищет Бога, и в Церкви встречает лишь холод и тьму, и бросается в сектантство» (с. 15)45. Интеллигенция также ищет Бога, но Он не может быть «только философским принципом»: «Он – источник всех духовных потребностей, Он – не только причина, но и цель всего сущего, Он – вечно близкая загадка, заполняющая духовную жизнь, Он – вечная отчизна тоскующего духа!..» Но эти запросы не находят сочувственного отклика в Церкви: «Во что обратилось христианское Богопознание в ее сухих, бездушных учебниках?» (с. 16). В грозную Судию или в бесконечное всепрощение, добродушие, что делает ненужной любую попытку самоусовершенствования. Юлия также приводит превращение Богоискательства «в идею пресловутого богостроительства на почве шарлатанских социальных утопий»46. Христианство сильно отдалилось от «мистических созерцаний основателей христианства, от глубокой метафизики их Богопознания…» (с. 17): «Der Gott ist gestorben!»47 «И просящим хлеба духовного дается если не камень, то в лучшем случае тетрадка прописной морали. […] Нет проповеди царствия Духа для обезумевшей от духовного голода толпы. Те, кому вверена забота о поддержании божественной искры в человечестве, сами ее гасят. Те, кому вверено пастырство, сделали из Царствия Божьего свою вотчину» (с. 18–19).
Можно подумать, что к такой критической картине Православной церкви, которой Юлия противопоставляет Латинскую церковь, ее привело общение с высокопоставленными русскими церковными деятелями (см. гл. II): «На Западе, пожалуй, католицизм еще борется с грозными признаками упадка – сперва при папе Льве XIII, пытаясь сблизиться с социализмом, а ныне, порвав с этим опасным союзником, прилагая все усилия к возрождению старых мистических идеалов». Но на Востоке царит равнодушие: «Кому ныне дорого православие? Разве только тем, для кого оно является политическим лозунгом и знаменем в партийной борьбе – или же просто уважаемою традицией. Церковь безжизненна, холодом смерти веет от нее…» (с. 19). Русская церковь «отвернулась от мистики и погубила себя уступками рационализму» (с. 20) и тягой к лютеранству со времен Петра Великого (с. 23)48. Обычно такие упреки православные адресуют Католической церкви! Русский народ – «народ-мистик, от веры требующий чуда», ищет «духовной пищи то в аскетических отраслях раскольничества, то в оргиазме хлыстов» (с. 25). Сами рационалистические секты – такие, как Штунда у крестьян, баптисты в городе или последователи Пашкова среди интеллигенции, – движимы тем же идеалом духовного братства в союзе с Богом (с. 25–26). Все эти течения дикого мистицизма угрожают Церкви, если она ограничится «благотворительностью». И забудет призыв Христа: «ищите прежде всего царствия Божьего и правды его»49, царствия, которое «внутри вас есть» (Лк. 17: 21). «Любовь к ближнему – лишь первая ступень лестницы духовного совершенствования, на вершине которой – полнота духовного восторга и чудотворной силы» (с. 28).
«Короче говоря, христианство утратило свой первоначальный дух и обмирщилось. Сама наука отказалась от «союза с узким рационализмом и усомнилась, наконец, в непреложной верности данных, воспринимаемых только пятью внешними чувствами. Душевные восприятия ныне стали предметом научного исследования, грани эмпирического познания раздвигаются с каждым днем» (с. 29). Один только монашеский идеал отвечает духовной жажде: «Смысл монашеского идеала именно в том, что он дает ответ на все запросы духа и плоти, сокращая до минимума телесные потребности, оставляя простор для максимального развития духовных сил» (с. 34). Юлия приводит большие цитаты (на французском языке) из «Апостолов» Ренана – «этот атеист по недоразумению, мистик в душе»:
«Остережемся быть участниками падения добродетели, которое угрожало бы нашему обществу, если бы христианство начало дряхлеть. […] Когда целые страны были обращены в христианство, устав первых церквей стал утопией и нашел себе приют в монастырях. […] Может ли христианство быть совершенным без монастыря, когда только в монашеской жизни воплощается евангельский идеал…»50 (с. 35).
Вот они, причины, объясняющие возникшее у Юлии в 1914 г. призвание к монашеству: секуляризация Церкви, утрата мистического смысла христианства. Юлия считала, что упадок мистического христианского идеала начался с XVIII века, с верой в прогресс и счастье на земле. Редко звучали голоса тех, кто предостерегал от этой иллюзии, как Луи-Клод де Сен-Мартен, которого цитирует Юлия.
Затем дневник прерывается до декабря 1915-го, то есть на полтора года. Война упоминается на двух страницах (глава 11, с. 45–46, приведенные ниже в главе IV). Затем еще одна страница, датированная ноябрем 1916 г. о войне и влечении к смерти, и Юлия вновь утверждает необходимость взяться за перо:
«А жизнь предъявляет свои права. После двухлетнего поглощения всех духовных сил одним лишь страстным увлечением51 снова из глуби души поднимаются старые запросы духа и мышления, старые потребности отвлеченного созерцания. „Sum, ergo cogito“.52 Мысли проносятся бесконечной вереницей, теснятся в усталой голове, кружатся в выси, как стая птиц, вспуганная канонадой, но не дают себя закрепить на бумаге, точно утеряли, среди всеобщего хаоса, способность кристаллизации или же просто чуждаются моей походной обстановки. Да и перо, приученное за два года к грубой канцелярской работе, точно отвыкло работать для себя… Но дух тоскует. […] Надо вновь приучить мысль к сосредоточению, отбросив столь удобное оправдание недосугом. […] „Nulla dies sine linea“53. […] Мне необходима работа мысли и духа для успокоения мятежной души, для заглушения голоса гложущей меня тоски» (с. 47–48).
И снова поднимаются вопросы, уже с новым мотивом – ощущением избранности для подвига, еще неясного, и признание в презрении к толпе посредственностей (гл. 13, с. 49):
«Что такое мое „я“? Почему наравне с полным презрением к жизни и столь неудержимым подчас тяготением к смерти меня иной раз так властно охватывает чувство какого-то призвания, ради которого надо себя беречь, так как мне суждено свершить нечто великое? Бывает ли это чувство у других людей или только у избранников – не знаю, но порою мне так ясно чудится, что я именно избранник принадлежу к числу избранных. Что это – самообман, самомнение или смутное чутье истины?.. Но как только вопрос этот ясно встает перед разумом, его смывает холодная волна скептицизма. Какой же я избранник? Уже полжизни прожито, и ничего не достигнуто, и даже не видно пути, идя по которому можно было бы совершить что-либо великое. Да и чего добиваться? Славы? Я слишком презираю людей, чтобы дорожить их мнением, а восторги толпы возбуждают во мне лишь брезгливость. Великого служения России? Но где то поприще, на котором я могла бы отдать ей все свои силы с великой и явной в моих глазах пользой? Да и что может дать женщина родине, хотя бы безумно любимой, если она судьбою не возведена на престол Екатерины Великой?.. Нет простора силам, нет успокоения мятежно-тоскующему духу, нет оправдания смутному чаянию подвига…» (с. 49).
Эти сомнения и вопросы сопровождают Юлию во время всех ее духовных исканий. Иные размышления относятся к ее женской природе.
«Я всегда страдала оттого, что я женщина»
Юлия никогда не высказывалась о своих сердечных привязанностях. Мы видели ее при дворе, уверенную в своем интеллектуальном превосходстве, презирающую пошлую «толпу», жестоко высмеивающую своих многочисленных поклонников. Сестра Мари Тома рассказывает (со слов Юлии), что она «была вроде помолвлена, но вскоре разорвала помолвку: она отступила перед перспективой потерять свою свободу и остаться на всю жизнь с одним человеком»54. Бурман упоминает о любви к женатому мужчине, от которой Юлия отказалась, чтобы не строить личного счастья ценой разрушения чужой семьи, что стоило ей «немало внутренней борьбы и тяжелых переживаний»55. Ее возлюбленный погиб в Манчьжурии в 1904 году56. В «Наедине с собой» Юлия упоминает любовь «бурн[ую], пламенн[ую], как вся моя жизнь», от которой «остался лишь дым и пепел». Коль скоро эта невозможная любовь смогла заставить ее навсегда отказаться от других привязанностей, то ясно, что ее отказ от семейной жизни имеет более глубокие корни и причина его кроется в обуревавших ее с ранних лет мистических исканиях. В «Наедине с собой» Юлия пишет, что христианство «поняло, что семья не составляет неизбежной, обязательной для всех жизненной нормы, что обязанность воспроизведения человеческого рода распространяется не на всех, что есть люди, которые должны быть освобождены от этого долга, без сомнения, священного, но не для всех предназначенного» (с. 36)57. В десятой главе «Наедине с собой» она приводит (или воображает) услышанный в саду одной дачи разговор четверых человек о видах любви: к Богу, к ближнему, к жене или мужу. Юлия отдает предпочтение первому виду, причем она отвергает свою женскую природу. «Наедине с собой» дает прекрасный материал для гендерных исследований:
«Ты знаешь, что мне ненавистно мое женское положение. Но ведь это всегда было, не только теперь. Я всегда мучилась тем, что я – женщина. И в этом, минувшем, мире, о котором ты говоришь, это было для меня острым страданием – еще худшим, чем теперь» (с. 95).
В начале «Наедине с собой» есть запись, которая может объяснить этот отказ от своей женской натуры: последняя ассоциируется со смертью (слово женского рода), с «неподвижным покоем» смерти, которая, как мы видели, со страшной силой влекла Юлию, с «пассивно-женским принципом», тогда как мужское начало есть начало активное, оплодотворяющее и животворное:
«Смерть мне всегда представлялась царственно-прекрасной женщиной, с бездонной глубиной в темных очах. В близости ее чуялось мне веяние материнской ласки. В юные годы не раз слагала я песни Смерти и пыталась изобразить в стихах ее величавое обаяние и мое безумное влечение к ее материнскому лону» (с. 5).
Однако Юлия вовсе не парень в юбке (фрейлина должна быть миловидной), ее называли «дива Юлия», и она кружила голову многим молодым людям, как ей временами сурово напоминает ее прежнее «я». Но «в том-то и дело, что женская доля вообще тяжела и что вообще крайне невыгодно иметь мужской ум в женском теле» (с. 111). Чтобы избежать дискриминации по признаку пола, Юлия выбрала мужской псевдоним для своих работ по философии. И ее «История гностицизма» была плохо принята в академических кругах, когда там узнали, что под мужским псевдонимом Николаев скрывается женщина. Так же было и во Франции: в «Наедине с собой» Юлия вспоминает, «сколько препятствий я встретила на первых порах в Париже» (с. 111). Это тоже было одной из причин, по которой она занималась конным спортом, где блистала, как напоминает ей ее прежнее «я»:
«Я снисходительно допускал, например, прославление твоих подвигов смелой наездницы, и мы оба выслушивали их не без удовольствия, даже когда они не были облечены в изящную форму выражались не в изысканной форме. Помнишь, например, как приятно щекотали твой слух грубые восторги конюхов и берейторов в манеже, когда ты справлялась с такой бешеной лошадью, на которой никто не мог усидеть? Как приятно было слышать, как шептали они публике: „На такого коня никто и не сядет, кроме нее, – уж такая она отчаянная, семь чертей ей в зубы!..“» (с. 97).
Юлия не знала, что война заставит ее перейти из манежа в кавалерийский полк…
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе