История Польши. Том I. От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X–XVIII вв.
Текст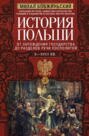


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 53,90 ₽
- Объем: 1050 стр. 8 иллюстраций
- Жанр: популярно об истории
Привилегии католической церкви
Однако не только немецкие колонисты стояли особняком от всего польского народа. Еще больше отдалилось от него духовенство. Ведь во второй половине XIII века положение польской церкви кардинально изменилось.
Разъединенные князья из династии Пястов, власть которых пошатнулась в результате либо соперничества друг с другом, либо из-за козней магнатов, стремились, как уже отмечалось, заполучить покровительство Святого Престола, бывшего в то время верховной политической инстанцией для тогдашней Европы, чтобы выпросить у него одобрение своим различным домогательствам или потребовать разрешения часто возникавших между князьями споров и распрей. В результате католическая церковь, которая дотоле являлась в Польше политическим учреждением, находившимся в полной зависимости от короля, возвысилась над князьями и вместо того, чтобы повиноваться их приказам, стала надменно навязывать им свое каноническое право. Однако церковь в Польше того времени начала играть значительную роль не только благодаря этой внешней, универсальной силе.
Завязав более близкие отношения с Западом, большая часть польского духовенства в XIII веке постепенно захватила такое же главенствующее положение, какое занимали священники в остальной Европе. Она прониклась духом церковной реформы и стала в ее осуществлении искренно помогать папским легатам, посещавшим Польшу. При этом прежнее женатое духовенство, заботившееся о своих семьях и весьма тесно связанное благодаря этому со светским обществом и постоянно общавшееся с ним в повседневной жизни, грубое, как и большинство тогдашней шляхты и сельского населения, вымирало и исчезало.
На его же месте появлялось новое, безбрачное духовенство, которое было до мозга костей предано целям церкви и проникнуто духом своего особенного призвания. Своим авторитетом оно считало Рим и постоянно оглядывалось на Запад, заимствуя оттуда не только достижения научной мысли, но и вместе с истинным религиозным духом новые обычаи.
Наряду с прежними церковными орденами, посвящавшими себя аскетизму или труду, как, например, бенедиктинцы и цистерцианцы, появились два новых ордена – доминиканский и францисканский, которые, войдя в непосредственное соприкосновение со всеми слоями общества, горячо взялись за дело проповеди христианства и соответствующие поучения и стали руководить белым духовенством175, оказывая ему немаловажную помощь.
Похоже, что именно им принадлежит главная заслуга в том, что религия в XIII веке перестала быть одной только формой и, всецело проникнув в польское общество, стала охватывать все более и более широкие слои населения и пробуждать у отдельных личностей стремление к аскетизму. Такое было очень важным, поскольку нападения монголов, выбив народ из привычного дотоле образа мыслей и труда, потрясли его волю и чувства, а такое его душевное настроение передалось жителям тех уделов, в которых земля не была изрыта копытами татарских коней.
Возникли яркие противоположности в нравственной сфере. В обществе, которое одичало в междоусобных распрях, было напугано нападениями врагов и жило, все более погружаясь в кромешную тьму невежества и разврата, охватившего все его слои, когда жадность соединялась с расточительностью, а слабость с жестокостью и авантюрным безрассудством, стало все больше появляться личностей, удалявшихся от мира, уединявшихся в монастырских стенах и посвящавших себя благочестию и милосердию.
Никогда еще Польша не знала стольких блаженных и святых. Так, жена Генриха Бородатого святая Ядвига тридцать лет супружества провела в Тшебницком монастыре, жена Болеслава Стыдливого святая Кинга вела вместе с мужем девственную жизнь и закончила ее в Сондецком монастыре вместе с женою князя Калишского Болеслава Благочестивого блаженной Еленой.
В Кракове своими чудесами прославились монахиня женского монашеского ордена норбертанок святая Бронислава и доминиканский монах святой Яцек из знатного рода Одровонжей. Это был первый поляк, который возложил на себя апостольскую миссию (на Руси и в Пруссии). В Завихосте уединилась в монастыре дочь Лешека Белого святая Саломея, а в Ендржееве – епископ Краковский блаженный Кадлубек.
Однако кульминационным моментом всего этого движения явилась канонизация святого Станислава и провозглашение его покровителем Польши в 1254 году.
Этого не случилось в XI веке. Только его тело в 1088 или 1089 году после смерти сына Болеслава Мешко было перенесено в усыпальницу краковских епископов в подвале Вавельского собора. Около этих останков начал развиваться культ, но в XII веке еще настолько слабый, что, вместо того чтобы предпринимать усилия по его канонизации, в 1184 году из Рима были привезены мощи святого Флориана, чтобы Польша имела своего святого покровителя176. Только в XIII веке, когда в епископской столице в Кракове обосновался Кадлубек, культ святого Станислава принял более широкие масштабы.
Хроника Кадлубека, в отличие от версии Галла, утверждала, что он пал в защиту церкви и ее принципов, а отдельное «Житие святого Станислава» это мнение широко развило. После нападения татар в 1243 году в Риме были предприняты усилия по его канонизации, которые, однако, и там натолкнулись на большие препятствия, и поэтому решение об этом вступило в силу только в 1254 году.
Князья династии Пястов, лично приехав на канонизацию епископа, который некогда принял смерть по приговору их предка, показали тем самым свое смирение перед церковью и окончательный отказ от прежних семейных самодержавных традиций. Только тогда они, каждый в своем уделе, начали предоставлять епископствам и отдельным монастырям особые привилегии.
В этих привилегиях много места отводилось освобождению имущества епископов и их подданных от уплаты княжеских налогов. В конечном итоге оставались только денежные выплаты с каждого двора и некоторые повинности по защите страны. Менее щедрыми оказались князья в отношении монастырского имущества, и поэтому каждый монастырь добивался уступок с их стороны шаг за шагом. Однако количество монастырей увеличивалось.
Теперь польская церковь стала организовываться на новых основаниях – на своем собственном каноническом праве, а ее судебная компетенция начала распространяться не только на духовенство, но и на население, проживавшее в церковных угодьях, а во многих случаях и на все католическое общество. При этом на страже обязательного исполнения церковных постановлений стоял интердикт177. В случае же нужды церковь прибегала и к помощи светской силы. В результате церковь и духовенство образовали особое политическое сословие, наделенное полным самоуправлением.
Князья утратили всякое влияние на замещение высших духовных должностей – исходя из канонических постановлений, право выбора епископов отныне получили соборные капитулы. Но и это еще не все. В зависимых отношениях от князя перестали находиться не только епископы, но и низшее духовенство. Оно перестало наперегонки добиваться княжеской милости, зная, что теперь в сфере церкви можно получить и назначение, и более высший сан, только оставаясь верным ее духу и интересам.
Самым главным законодательным учреждением католической церкви в Польше были синоды, на которые съезжались делегаты от отдельных капитулов и все епископы. Они проходили под председательством архиепископа Гнезненского или папских легатов и систематически издавали обширные, точно сформулированные постановления, называвшиеся «Синодоидальными статутами», которые как по форме, так и по содержанию послужили образцом для нашего светского законодательства.
Заботясь о самостоятельности церкви, эти синоды прилагали все усилия, чтобы утвердить и обеспечить за ней большее влияние на общество, чем прежде, а поэтому с огромной заботой занимались вопросами просвещения и организации школ. В результате вследствие тщательного отбора учителей и расширения числа изучаемых предметов заметно улучшилось преподавание в соборных школах, занимавшихся образованием духовенства. Благодаря стараниям синодов начали появляться также начальные приходские школы, которые основывались при приходских костелах и вверялись попечению и контролю пробстов178.
В Польшу прибыли не только иностранцы, как когда-то Галл, но за перо взялись и поляки. Так, епископ Краковский Викентий (Винцентий) Кадлубек, позже инок цистерцианского монастыря в Енджеювском монастыре (умер в 1223 г.), написал хронику истории первобытной Польши, доведя ее до 1205 года. Эта хроника, читаемая и комментируемая в школах, не только по своему содержанию, но и в принятом для того времени латинском стиле показала нам состояние общественных наук, а также в лояльном и порой даже пышном слоге восхвалила медлительного в церковных делах Казимира Справедливого и безжалостно осудила выдающегося представителя традиций династии Пястов Мешко Старого.
Привилегии землевладельцам
Общий политический и экономический переворот не мог, конечно, не отразиться и на рыцарстве. Те рыцари, которые еще оставались на содержании князей, после монгольских нашествий окончательно осели на земле. Теперь раздача земель стала осуществляться в неслыханных до той поры размерах, и в связи с этим начало шириться понимание того, что рыцарская служба не является особенной обязанностью, а означает повинность, соединенную с обладанием поместьями, основанными на «рыцарском праве», то есть освобожденными от всяких податей и повинностей.
Рыцарство, ставшее оседлым («посесьенаты», то есть поселенцы), образовало класс землевладельцев и стало пользоваться его правами, а также нести соответствующие обязанности. Отсюда и страстная привязанность рыцарей к своей вотчине, породившая многочисленные юридические проблемы, связанные с ее продажей (необходимо было получить согласие родственников), переходом рыцарских поместий по наследству к отдаленным родственникам мужского пола при отсутствии на них права наследования у женщин, в том числе и дочерей, оставшихся после умершего. Ведь тот, кто не имел земли, становился «голытьбой» («непосесьенатем») и, не имея по отношению к государству ни рыцарских прав, ни обязанностей, переходил в услужение к частному лицу или поселялся в городе. Однако, чем бы такой человек ни занимался, пусть даже отправляя государственную должность, он рано или поздно все равно утрачивал свое рыцарское звание.
К тому же класс землевладельцев не был однородным. В нем четко выделялись два слоя, кардинально отличавшиеся друг от друга. Первый слой составляли рыцари, обладавшие поместьями. Они вели свое хозяйство с помощью управляющих, организовывавших труд подневольных крестьян. Второй же слой образовывали те, кто владел только единичными ланами и вынужден был лично заниматься земледельческим трудом.
При этом представители первого слоя вполне могли нести военную службу без ущерба для своего хозяйства и выступали на войну с отрядом, соответствовавшим величине их поместий. А вот для рыцарей второго слоя военная повинность являлась бременем, превосходившим их силы. Ведь они не могли добыть средств для приобретения тяжелого вооружения, а также боевого коня и, бросив пашню, содержать себя на войне. Поэтому рыцарское поселение было вынуждено отряжать на войну только нескольких человек, и то часто только пеших. Причем разница между ними и богатыми рыцарями в вооружении и воинской выправке резко бросалась в глаза.
Рыцарские обычаи, которые возникли на Западе под влиянием крестовых походов, дошли и до Польши, но проникли только в высшую, более знатную часть рыцарства. Причем даже само слово «рыцарь» употреблялось лишь применительно к высшему рыцарскому слою, тогда как представители низшего его слоя носили старинное название «владыка». При этом в высшем слое землевладельцев все еще были представители семей, которые, сохранив традиции своего знатного происхождения, продолжили и традиции рыцарства. Поэтому, когда владыки присвоили себе название рыцарей, высший рыцарский слой стал называть себя шляхтой и юридически разграничился с низшим.
Таким образом, к шляхте начали относить представителей высшего слоя землевладельцев, которые, имея поместья, либо сами занимали княжеские, придворные или городские должности, либо эти должности отправляли их родственники или предки. А на такие должности в прежнюю эпоху милость монархов вознесла не одного простолюдина или иностранного рыцаря. Причем княжеская должность в Польше, как и на Западе в Средних веках, уже сама по себе возвышала достоинство человека – вира179 за убитого чиновника в три раза превосходила сумму, взыскивавшуюся за простого человека.
Теперь же это индивидуальное право было перенесено на все шляхетское сословие, стало наследственным и отделило шляхту от владык. К исключительному праву шляхты стали относиться и другие привилегии, которыми пользовались высшие королевские чиновники, что нашло свое отражение во внешних отличиях – эмблемах (гербах) и девизах (кличах). Причем в качестве гербов в XIV веке по заграничному образцу стали использоваться изображения топоров, грифов, подков, месяцев, копий и так далее.
Обособленность шляхты не могла бы сохраниться без определенной ее организации, и подобная организация появилась в XIII веке в виде шляхетских родов. Все шляхтичи, относившиеся к одному роду, имели общий герб и девиз и сражались на войне под одним знаменем, а в мирное время соблюдали полную солидарность, поддерживая тех из своей среды, которые достигли высших должностей, и образуя некое подобие политических партий.
При этом если род настолько разрастался, что не мог уже сохранять солидарность, то от главного рода отпочковывались новые, принимавшие другие гербы и девизы. Так, от Старжов-Топорчиков произошли Запшанцы и Окши, с которыми потом объединились Палуки. От Свебодзинов (Грифитов) – Побенджи и Костеши, от Лабендзей – Гоздавы и Радваны, от Одробондов (Одровонжей) – Повалы (Огончики), Кживосонды (Несоби) и Дрогославы и так далее. Причем члены одного и того же рода отличались друг от друга только фамилией, которую они заимствовали от названия своего поместья (например, в роде Одровонжей от Шидловца – Шидловецкие, от Спровы – Спровские), а иногда фамилии происходили от постоянного родового прозвища (как, например, в том же роде Пененжки). Однако каждый представитель шляхетского рода при смене поместья менял и фамилию, что при разделе наследства приводило к появлению нового прозвища.
Наиболее явным доказательством обособления шляхты являлись, кроме того, так называемые «нобилитации» (возведение в шляхетское достоинство), возникшие во второй половине XIII столетия. Отныне для пожалования человеку нешляхетского происхождения шляхетства и соединенных с этим герба и девиза стал требоваться особый монарший акт. При этом шляхетские роды сохранили за собой право принимать к себе посторонних людей нешляхетского происхождения путем усыновления и возводить их тем самым в шляхетское достоинство. Вероятно, именно таким путем многие члены знатных рыцарских семей, продолжавших преуспевать на государственной службе, и вошли в состав древних дворянских родов180.
Между тем перед шляхтой стояла еще одна задача, но и ее она во второй половине XIII века успешно разрешила. Дело заключалось в том, что до того времени шляхта в своих поместьях имела подневольное население, закрепленное за ней как в юридическом, так и в экономическом отношении. Теперь же, стремясь по общему примеру улучшать свое хозяйство и повысить величину получаемого от него дохода, она не могла ограничиться только этими крепостными и вынуждена была привлекать свободных людей на пустующие земли, поселяя их на них на основании договора, составленного на основе так называемого немецкого права.
Однако такое выходило за рамки компетенции шляхты, так как власть над свободными людьми принадлежала государю и его чиновникам и такой порядок вещей самовольно нарушать не разрешалось. Поэтому отдельные паны добились для себя целого ряда особых привилегий, в силу которых они получили власть и над свободным населением, проживавшим в их поместьях, а также право организации на своих землях немецких гмин, освобожденных если не ото всех, то, по крайней мере, от многих общественных повинностей.
Тем не менее в новой организации общества уже не было места для владык. Одним из них удалось войти в состав шляхетских родов, другие же поселились в городах, а третьи – в сельской местности, заняв место солтысов.
Таким образом, кроме духовенства, сложилось три сословия – шляхта, горожане (мещане) и холопы. Последние, однако, хотя и много чего получили, остались подданными своих панов. В результате самоуправления добились только духовенство, шляхта и города.
Государство и его правитель
Над всеми этими сословиями возвышался правитель, опиравшийся в своей власти на необозримые земельные угодья, остававшиеся у него после выделения наделов церкви и шляхте, а также передачи земли городам. Эта собственность (патримоний), лучше благоустроенная и увеличенная за счет колонизации, приносила ему значительный доход в виде налогов с сельского населения и в немалой степени с городов. Данные доходы возрастали за счет торговых пошлин, а также за счет соляных копей в Величке и Бохне и свинцовых рудников в Славкуве, открытых в Краковской земле как раз в середине XIII века. Их продукция шла даже за границу и составляла крупный и важный источник доходов казны. Эти доходы шли на удовлетворение нужд королевского двора и на общественные расходы, а во время войны позволяли князю призывать на военную службу подчиненных ему рыцарей и солтысов.
Важным фактором увеличения доходов княжеской казны была также та часть населения, которая от случая к случаю прибывала на территорию Польши уже с самых давних времен, но теперь начала приезжать в более массовом порядке и оседать на постоянной основе в княжеских поместьях. Такими переселенцами были евреи. Преследуемые тогда на Западе, они нашли у нас убежище, гарантию безопасности их жизни, имущества и веры, которую впервые официально дал им калишский князь Болеслав в привилегии 1257 года.
Евреи всецело зависели от князя и находились под его покровительством и юридической защитой, а взамен вносили многочисленные подати в его казну.
Если сейчас попытаться охватить все те изменения, которые произошли тогда в общественных и политических отношениях, то необходимо будет признать, что в конце XIII века сущность первоначального польского государства с его патриархальным характером себя исчерпала и на его месте появилось новое, которое отличалось тем, что:
1) народ состоял уже из трех совершенно обособленных и самоуправляющихся сословий – духовенства, рыцарства и горожан, тогда как прежде он представлял собой единое целое;
2) князья опирались главным образом на доходы от своих земель, не вмешиваясь во внутренние дела сословий, и только защищали их от внешних врагов, заботясь о сохранении между ними равновесия и согласия, тогда как прежде они прямо и непосредственно ведали всеми делами своего народа;
3) отношения между князем и сословиями основывались на многочисленных привилегиях, в которых правитель брал на себя различные обязательства, тогда как прежде эти отношения строились на патриархальных связях и признании правителя главой большого семейства, который правил без всяких ограничений.
Следует подчеркнуть, что привилегии являются внешним признаком средневекового периода развития польского государства. Их даровал правитель, но на основе предварительного соглашения с частным лицом, городом, церковью, епархией или областью. Причем их договорный характер со временем становился все более выраженным. Кроме того, они являются нашим самым древним письменным законодательством политического содержания.
Это новое средневековое устройство называется патримониальным государством по имуществу князя, которое именовалось патримонием и играло в нем главенствующую роль. Его можно также назвать сословным государством, то есть государством, основанным на нескольких самоуправляющихся сословиях.
К тому времени патриархальное правление уже себя исчерпало, образовав из находившихся в хаотическом состоянии элементов народ и государство. Теперь встала задача пробудить общество к самостоятельному экономическому и цивилизаторскому труду, а такое без облегчения бремени княжеского права, без самоуправления и привилегий было просто невозможно. И хотя при этом правители потеряли часть своей власти, но зато общество выиграло вдвое и народ приобрел необходимые условия для дальнейшего плодотворного развития.
Однако эту цель невозможно было достичь, пока страна подвергалась постоянным набегам врагов, с которыми разобщенные князья не могли справиться, пока эти князья, жестоко сражаясь между собой, грабили и опустошали польскую землю хуже, чем внешние недруги. В результате плоды нескольких или даже десятков лет усердной экономической работы шли прахом после одного такого нападения, а уничтожаемые и возобновляемые труды в социальной области походили на работу Данаид181.
Никогда еще, как во второй половине XIII века, династические распри разрозненных Пястов, набеги бранденбуржцев, померанцев, пруссов, ятвягов, литовцев и русских, не говоря уже о татарах, не производили в Польше столь огромных разрушений. Ведь одной из главных целей этих боев являлось уничтожение имущества противника, но воюющее войско не щадило и свое, прежде всего наиболее благоустроенные церковные владения.
При этом привилегии не соблюдались, а правящие князья, лишенные ресурсов для борьбы, не могли или не хотели их защищать. За это церковь, чтобы сохранить свои доходы, часто злоупотребляя своими правами, подвергала анафеме даже самых набожных и праведных князей. Споры между епископами и князьями о причиненном вреде подданным церкви были на повестке дня на протяжении всего XIII века.
Обществу, уже научившемуся ценить плоды своего труда, тоже приходилось испытывать результаты слабости князей, которые не могли дать отпор врагам. Оно было вынуждено терпеть их взаимную вражду и претензии. В таких условиях все отчетливее становилось понимание того, что стране нужен один сильный хозяин, под чьим крылом можно было бы успешно укрыться.
Однако со смертью Генриха Благочестивого в битве под Легницей умерла и надежда на верховную монаршую власть, связанную с Краковом. Вместе с тем ощущение того, что все районы, вместе взятые, образуют единую Польшу, которую в номенклатуре стали делить на Великую и Малую, осталось. Польша перестала быть единым государством, но не распалась на независимые страны, а образовала целостное множество княжеств, находившихся в более тесных связях друг с другом, чем земли в Германском рейхе.
Одним из таких связующих элементов для Польши была общая династия Пястов, в рамках которой происходили все разделения и слияния уделов. Кроме того, польские князья часто проводили время вместе на совместных съездах и встречах. Организация уделов тоже была одинаковой, и временные их разделы или слияния ничего в этой организации не меняли, за исключением разве того, что создавался новый княжеский двор или исчезал один из старых дворов. Точно так же разделялись или объединялись и собрания клерикалов.
Раскол государства не коснулся и организации церкви, которая под руководством митрополита Гнезненского составляла единое целое и называлась Польской церковью. Ведь Рим считал Польшу, как таковую, за свою провинцию, а представители престола Святого Петра, оплачиваемые польским народом, напоминали ему, что он образует одно целое. В глазах папы и императора Священной Римской империи все польские уделы всегда составляли Польшу, их князья были польскими князьями, а жители – поляками.
И все же во второй половине XIII века польские внутренние отношения сложились такими, что трудно было предсказать, возможно ли вообще объединение этого народа в одном государстве или нет, а если да, то кто это сделает.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽