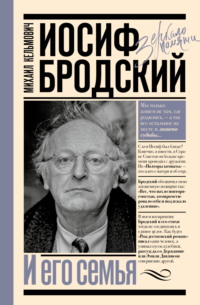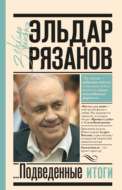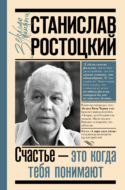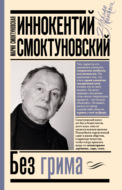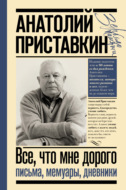Читать книгу: «Иосиф Бродский и его семья», страница 3
Ленд-лиз
В пространстве семьи, будничном или праздничном, Иосиф чаще всего был «где-то не здесь» – в экспедиции, ссылке, эмиграции, но при этом постоянно присутствовал в разговорах и мыслях, создавая на фоне обыденности семейную легенду. Его реальные появления сейчас мне напоминают открытые освещенные окна на темном фасаде здания. В них можно увидеть яркие случайные сцены незнакомой жизни, между которыми совершенно нет сюжетной связи. Порой неясен их точный смысл, и они отделены друг от друга протяженными темными плоскостями неизвестного.
Одно из таких окон в заброшенном каталоге воспоминаний именуется ленд-лизом. Это тоже детское воспоминание. Его отчетливость объясняется совершенно необычным содержанием. Это была ссора – яростная, настоящая. Нечто совершенно в нашей семье немыслимое.
Мы были в гостях у Доры. Камерная семейная посиделка включала самых близких, и ее редкой особенностью было присутствие Иосифа. Семейные собрания всегда были насыщены разговорами об искусстве или политике. Диапазон был широк: от последних театральных сплетен до сравнительного анализа концепций авангардного искусства или непосредственных воспоминаний из жизни богемы начала века. Присутствовали также водка и коньяк с хорошей закуской в стиле булгаковского «Грибоедова».
Разговоры во время таких вечеров иногда перерастали в споры, порой горячие, но всегда корректные. Бродский же обыкновенно имел обо всем оригинальное мнение. В этот раз Иосиф и Михаил Савельевич сначала рассуждали, а потом заспорили о причинах победы в Великой Отечественной войне. Иосиф высказал совершенно крамольную по тем временам мысль: выиграть войну в решающей степени помог американский ленд-лиз. Тут с Гавронским они заговорили особенно горячо. В какой-то момент перешли на крик, затем Михаил Савельевич вскочил, выкинул в указующем жесте руку в сторону двери и заорал: «Вон из моего дома!» Иосиф оделся и быстро вышел. Михаил Савельевич долго не мог успокоиться, чувствуя себя оскорбленным. Дора утихомиривала его гнев, а остальные испытывали неловкость и некоторую растерянность.
Несколько позже дядя и племянник помирились. В нашей семье никогда не было и быть не могло настоящей вражды. Между ними – тоже.
Канистра спирта
Пока есть с кем спорить, споры о прошлом продолжаются. И слава богу! Хуже, когда ты остаешься один и спросить более некого. В узком ныне семейном кругу мы не сошлись во мнении, где Михаил Гавронский заканчивал войну. По одним представлениям, после тяжелого ранения в живот он больше не возвращался на фронт. Но есть другая версия, по которой он воевал до 1945 года и завершил службу в Венгрии. Фронтовая судьба его требовала уточнений.
Память, если все-таки согласиться с тем, что это нечто материальное, для меня более образ и состояние, чем последовательность дат. Однако, взявшись за написание данного текста, я вынужден учиться воспринимать прошлое иначе. Ответ приходится искать в старых документах.
Семейный архив нередко представляет собой какой-нибудь длинный ящик комода, заполненный бумагами, медалями в коробочках и сломанными безделушками. Этот – был ящиком бюро с запахом красного дерева и бумажной пыли. В нем обнаружились пачки старых документов и фотографий, как довоенных, так и времен войны. Перебирая их, я узнал в том числе и то, что кроме «Концерта Бетховена» (1936 г.) Михаил Савельевич снял еще один художественный фильм. Кинолента «Приятели» вышла перед войной в 1940 году.
Кроме того, он работал над картиной о Полине Виардо и Тургеневе и для этого даже ездил в командировку в Париж. Фильм по какой-то причине не был закончен. А семейные предания сохранили этот эпизод лишь потому, что Гавронский привез Доре из Парижа пол-литра духов «Шанель».
Что касается «Концерта Бетховена», из довоенной рекламной брошюры я узнал, что именно к этому фильму Владимир Шмидтгоф и Исаак Дунаевский написали очень известную тогда песню «Эх, хорошо в стране советской жить!».
Интересно, что по поводу этого текста думали старшие члены нашей семьи, особенно Мария и Александр Иванович Бродский?
«…Эх, хорошо страной любимым быть!» – фраза прямо для них. Чудовищная ирония.
«…Перед нами все двери открыты:
Двери вузов, наук и дворцов».
А эти строки прямо адресованы Иосифу Бродскому! Впрочем… в образе мыслей старшего поколения есть нечто недоступное для моего понимания.
Более всего в коробке с документами и медалями впечатлили даже не награды, а пачка небольших листков, напечатанных на серой газетной бумаге. Вот текст одного из них.
Младшему сержанту тов. Гавронскому М.С.
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. СТАЛИН.
Приказом по войскам 2 Украинского фронта от 10 марта 1944 г.
объявляю Вам благодарность за отличные боевые действия в осуществлении прорыва обороны немцев и разгрома Уманьско-Христовской группировки противника.
Командир части:
Подпись – закорючка, сделанная толстым красным карандашом.
Перечень листков начинается 2 февраля 1943 года: «…за успешное завершение ликвидации немецких войск, окруженных под Сталинградом…», включает бои под Корсунью, Богуслав и Канев, форсирование Днестра, выход к государственной границе и заканчивается Будапештом. Нынче на бумажках такого размера печатают глянцевый рекламный флаер – приглашение в модный бутик или фитнес-клуб. В этих же невзрачных листках прежде всего ощущалось смертельное дыхание войны.
Похоже, Гавронский действительно завершил войну в Венгрии. А поводом к поискам и уточнениям послужила следующая семейная история. Большинство солдат и офицеров из тех, кто заканчивал войну в Европе, возвращались домой с добычей. Они привозили более или менее ценные вещи незнакомого европейского качества и назначения. В зависимости от должностей, званий, технических возможностей и свойств характера отличалось и количество привезенного. Начиная с чемоданов и заканчивая железнодорожными вагонами.
Говорят, Дора очень обижалась на Михаила Савельевича, что из вещей он ничего не привез. Приехал только с канистрой спирта.
Как говорилось вначале, я всячески избегал писать воспоминания о семье и Иосифе. Вовлекшись, однако, трудно остановиться.
Сказать, что работа над текстом доставила удовольствие, было бы неточно. Люди близкие, но давно ушедшие как будто бы вновь оказались рядом. Однако сейчас я узнаю их по-другому, как взрослый человек, к тому же вглядывающийся из другой эпохи. Это движение не похоже на обращение к прошлому, скорее на проживание нового отрезка жизни, и в этом для меня есть особая ценность.
Воспоминания всколыхнули устремление, сходное с чувством долга. Теперь мне представляется важным рассказать о семье Иосифа, о нашей семье. Кажется, что таким образом я не только открываю новые страницы их жизни современникам и детям XXI века, но еще что-то возвращаю своим близким, как будто частицу существования.
Есть вещи, о которых необходимо рассказать.
В некотором роде я историческая личность, потому что именно мне вдвоем с Михаилом Руткисом пришлось разобрать обстановку Полутора комнат перед тем, как помещение изъяли в жилой фонд. Кто-то должен был это сделать. Память воспроизводит трудно передаваемое чувство, значительно более тяжелое, чем то, которое возникает на похоронах.
Я многое помню о жизни матери и отца Иосифа, об их ожидании и одиночестве. Я предполагаю рассказать обо всех сестрах и их брате. Об их отношениях и жизни нашей семьи. Мне хотелось бы осветить малоизвестные факты из жизни Иосифа, касающиеся его родных. И, возможно, рассказать о том, кто и как сохранял архивы и вещи дома, который на наших глазах становится музеем.
Теперь я хочу об этом написать. Дай мне Бог на это силы и время.
Часть 2
Театральный романс
Заглянем в ее глаза! В расширенные от боли
зрачки, наведенные карим усильем воли, как объектив, на нас – то ли в партере, то ли
дающих, наоборот, в чьей-то судьбе гастроли.
Иосиф Бродский «Портрет трагедии»
Дом на Бородинской
Дом на Бородинской, 13, называют домом театральных работников. Он был построен в 1936 году архитектором А. Олем по заказу БДТ. В нем до войны Дора получила квартиру. Это здание темно-серого цвета, массивной и несколько мрачной сталинской постройки выходит на улицу длинным фасадом, монотонность которого частично скрашивается ритмическим повторением эркеров. Продвигаясь вдоль него, я каждый раз пытался определить, какой из треугольных выступов относится к квартире Доры и Михаила Савельевича, и часто сбивался со счета.
До сих пор это единственная на моей памяти квартира с синими стенами. Обои гостиной насыщенного оттенка берлинской лазури с тонким рисунком из золотых медальонов делали ее особенно изысканной. Гостиная была обставлена антикварной мебелью красного дерева, соразмерной и подобранной с редким вкусом.
В эркере стояли круглый стол с двумя бронзовыми девятисвечными канделябрами (хрупкое рококо) и четыре стула с бархатными сиденьями. Огромный молочай пытался нарушить покой тяжелой шторы. Над столом, как же без этого, висел оранжевый абажур.
От эркера слева располагалась горка с коллекционным фарфором, справа – большое прямоугольное зеркало с полкой. На полке толпилась группа шаловливых бронзовых фавнов. Освещали зеркало елизаветинские бра – хрустальные цветы на бронзовых же стеблях. За зеркалом шла тахта с подушками. Со стены спускался и накрывал ее большой ковер. Тут же висела картина неизвестного художника девятнадцатого века.
Далее, в углу, помещалось старинное дамское бюро, всегда открытое, с наваленными рукописями, сценариями и текстами ролей. Стену над бюро заполняли хаотично развешанные фото с Дорой в различных ролях в театре, разного времени, в рамках и без них. Вдоль другой стены стояли небольшой шкафчик, тумба и телевизор и были открыты двери в спальню. Каждая комната имела отдельный вход, и одновременно они были соединены. Ребенком я иногда любил ходить через спальню кругами.
В спальне из-за тюля и тонких портьер был легкий полумрак. Здесь главенствовал гарнитур из карельской березы. Кроме огромной кровати и тумбочек, его составляли: трюмо, софа и маленькие будуарные кресла, обитые шелком. Рядом с зеркалом возвышались на подставке, в половину человеческого роста, бронзовые часы классического стиля с двумя античными фигурами: мужской и женской. На стене висели картинки с какими-то ангелочками и эскиз работы чуть ли не Шагала.
В коридоре и прихожей стену занимали книжные шкафы. Кухня была по-советски аскетична и контрастировала с остальной квартирой.
Я всегда ощущал, что этот дом чем-то отличается от других, даже обставленных столь же красивыми старинными вещами, но не мог определить этого качества. Теперь же понимаю, что, кроме выдержанного стиля, здесь была особая атмосфера несоветской, почти заграничной жизни, благополучной, не озабоченной бытом, заполненной театром и кино, основанной на свободе времяпрепровождения.
После 1991 года я не был в этой квартире двадцать лет. Переступив порог и время, в первый раз не узнал ее, не нашел прежнего театрального облика. Мне показалось, что дом полностью изменился, и я пережил это как некое разрушение.
Но, как известно, стакан либо наполовину пуст, либо в той же степени полон. Еще через год я оказался здесь снова, и впечатление было совершенно иным. Меняются не только квартиры, но и люди, которые в них возвращаются. Способность принимать то, что есть, и быть благодарным самому факту существования приходит к нам совсем не в юные годы.
Так или иначе, я был счастлив тем, что дни этого дома продолжаются и что я могу приходить сюда. В силу обстоятельств квартира обрела иные черты, и многого из той Дориной и Мишиной жизни теперь здесь нет. Но разве может быть иначе в мире, подверженном переменам? Времени, как сущности, не существует вовсе. Мы называем этим именем череду изменений в вещах и событиях, а также в человеческих существах, знакомых, близких и посторонних. Квартиры рождаются, живут и умирают, подобно людям. Некоторые за эти годы распались на атомы и растворились в неодушевленной материи, именуемой «жилплощадь», другие продолжают существование.
Здесь пространство осталось таким, как было в целом, его общий абрис – это дом нашей семьи. Здесь сохранилась память о тех, кто здесь жил раньше. Что же еще нужно?
Вот удивительный довоенный уличный шкафчик, встроенный в угол кухни, – он заменял холодильник. Вот все тот же молочай, которому уже мешает расти потолок. И канделябр стоит на столе, и на своем месте у зеркала шаловливые фавны…
Какое-то время назад в новостях писали о том, как проживающий здесь, на «Бородинке», Олег Басилашвили, подобно святому Георгию, успешно поразил дракона по имени ЖКХ, одной фразой повергнув его и призвав к ответу за беспредел, связанный с отключением воды и разрушением коммуникаций.
Жизнь продолжается, так же как не умирает искусство театра… Как это ни странно…
Доренька
Среди прочих бумаг архива на глаза попалась Дорина красноармейская книжка времен войны, с множеством отметок об учебе на санитарку. Красноармеец и санитарка Дора Вольперт? Как-то мне это трудно представить.
Михаил Савельевич звал ее дома Доренька.
Доренька во всем была актриса. Это была истинная правда, ярлык актерства прикрепился к ней в кругу семьи, и она полностью ему соответствовала. «Ну, Дора – актриса!» – звучало часто, когда ее обсуждали. В эту фразу вкладывалась бездна оттенков смысла: от безмерного уважения ее увлеченности сценой до откровенной иронии над склонностью к театральным эффектам, блеском и одновременно некоторой комичностью, позерством и предсказуемостью ее поведения. Ибо, отличаясь по форме, по сути ее психожест был всегда один и тот же.
На большом семейном празднике или камерной встрече самых близких родственников Дорино появление всегда было поздним. Обычно к этому времени большинство гостей уже собралось и неторопливо беседовало. Часть женщин энергично помогала на кухне. С появлением Доры тишина разлеталась вдребезги, мирные беседы гасли, становилось шумно и весело.
Входила она приблизительно так. Не снимая взъерошенной шубы или пальто с невероятной брошкой, почти в театральном гриме, с яркими рыжими крашеными волосами, собранными в довольно жидкий пучок, – в ушах огромные серьги-кольца, вокруг нее сразу распространялось облако французских духов – она ступала на коврик в прихожей, как на сцену, и, не снимая пальто, не здороваясь, громогласно заявляла: «Рая, как ты красишь губы?!» —…пауза.
Не ожидая ответа, позволяла снять с себя шубу. И, не продолжая предыдущую тему: «Ах, какая пагода!» – обращаясь к пробковому китайскому панно на стене. «Это Мариино панно. Осе… нравилась эта пагода!» И так далее.
Под шубой обнаруживалось невероятное платье с бантами или платок с огромными розами, а также каскады дешевой бижутерии, при том что она имела великолепные драгоценности, в том числе и бриллианты.
Она, естественно, не пропускала зеркало в прихожей, на ходу рассказывая последнюю театральную сплетню, решительно направлялась либо в гостиную, либо на кухню. Независимо от последовательности, успевала побывать и там, и там.
В гостиной сразу возникало бурное обсуждение «этого Агамерзавца»5 или результата последнего футбольного матча между «Зенитом» и «Спартаком». Дора, страстная болельщица и знаток футбола, болела яростней мужчин.
Не менее экспрессивно развивалась тема очередных интриг в театре, последних новостей от Иосифа из Нью-Йорка, новой выставки импрессионистов в Эрмитаже или свежего самиздата. В этот ряд, впрочем, попадал рецепт пирога простого приготовления.
В разговоре ее могла остановить только философия и тема шахмат. Ни того ни другого она не любила. В остальном разбиралась великолепно, имела свое решительное, ни на чем не основанное, но часто верное суждение. Отстаивала свою точку зрения пристрастно, но, как правило, не желала углубляться в предмет надолго.
Далее Дора перемещалась на кухню… На кухне дело происходило так. Застолье в то время было делом святым и главным. Хозяйки целый день старались сделать стол к приходу гостей. Иногда не в одиночку, вдвоем, втроем, уставая от трудов, как на работе, готовили множество блюд.
За десять минут до предложения последовать к столу появлялась Дора. Окидывала кухню взглядом полководца и говорила замученным хозяйкам: «Я сейчас все украшу». За оставшиеся мгновенья она вставляла где листик петрушки, где раскладывала горошек или разрезала розочкой яйцо, располагая его в центре салата. «Ну, вот теперь все готово», – говорила она и с видом человека, сделавшего дело, шла в гостиную продолжить разговор или курить. Ее провожали взгляды выбившихся из сил хозяек. Если пытаться расшифровать такой взгляд, фраза звучала бы так: «Ну, это же Дора!»
Сестры курят
Дора, Мария и Рая курили папиросы «Беломор». В отличие от остальных, Дора это делала с театральным шиком, и на мундштуках ее окурков в пепельнице оставались самые яркие полосы красной помады.
Курение для них было важным делом. Во время праздника курили прямо за столом. В обычные дни отходили в какой-нибудь уголок к вытяжке или входной двери или направлялись на кухню.
За папиросой порой происходили самые главные разговоры. Ситуация располагала к наибольшей откровенности, глубине мысли и даже выражению чувств. Последнее обычно было им не свойственно.
Именно с папиросой в руке Мария могла позволить себе трагическую ноту в отношении своего будущего. Дора порой задумывалась и молчала. А Рая и вовсе уходила взглядом и мыслью куда-то так далеко… может быть, в юные счастливые годы.
Что стояло за этим: ощущение свободы эмансипированной женщины 20–30-х годов? Скорее, дорогая цена каждой краткосрочной передышки в их тягловой жизни, состоящей из войн и пятилеток, может быть, равная в стоимости куску хлеба.
Сестры кажутся сейчас сделанными из стали. Воля и долженствование, терпение и борьба за существование были смыслом или содержанием их жизни. Им так много приходилось выживать, что их женственность была не проявлена вовне или старательно скрыта (исключая Дору), тем более в стране, где не было секса. Мужская уверенность в движениях и поступках и женская потребность хранить семью. Быт был полем битвы, когда не было настоящих сражений. Воинское что-то оставалось в них, что-то блокадное. При этом они были истинно интеллигентны.
Курили сестры глубокомысленно, предаваясь процессу. Мария – философски, монументально. С папиросой она казалась олицетворением кухонного андеграунда, из которого, между прочим, кроме Бродского, вышли Довлатов, Найман, Уфлянд и прочие. Ну, если не самогó символа этой когорты, то по крайней мере кормящего ее Бога: на коммунальной кухне с большой ложкой в руке.
Дора курила театрально. Скорее Талия, чем Мельпомена, с папиросой в углу накрашенных губ. Рая затягивалась отвлеченно. Воплощая одну из тех неизвестных героинь, миллионы которых несли на себе весь груз войны, разрухи, сталинизма и не менее сурового и пожирающего человеческие жизни быта.
Борис курил во время войны и некоторое время после. С папиросой я видел его только на фото. Роза не любила папирос, она занималась зарядкой и каждый день обливалась холодной водой. Итак, часто наблюдалась картина «Три богатыря», когда Мария, Дора и Рая сидят рядом, затягиваясь папиросами и рассуждая. Особенно запомнилась эта картина на фоне пейзажей Зеленогорска, где много сезонов подряд снимали летние дачи.
Дачные домики всегда стояли прямо посреди леса, а на участке непременно был сколоченный из досок и врытый в землю столик с двумя скамейками. За ним и располагались сестры. Думаю, для них было истинное удовольствие не спеша покурить и побеседовать. Фотографий с подобной сценой сохранилось немало.
Убивает не только курение, но и время. Нынче фотографии пожелтели, и столиков, как и старых дачных домов, почти не осталось. Рощи так же зелены и желтеют осенью, но деревья в нашем восприятии взаимозаменяемы. И сейчас у некоторых моих ровесников я нахожу ту же привычку. Сделать паузу если не посреди войны и изнурительного труда, то в этой безумной гонке неизвестно зачем и куда, предположительно за деньгами.
Глубинный смысл перекура порой сохраняется. Именно так он обнаружился на кухне, вдали от веселящихся гостей, совсем недавно, пару лет назад. Один из немногих живущих ныне членов моей семьи, самый успешный и благополучный, «состоявшийся» человек, критикуя современную архитектуру, вдруг остановился на полуслове, помолчал и, затянувшись сигаретой, вдруг признался, что, хотя всего, чего хотел, достиг в жизни, почему-то не чувствует себя счастливым.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе