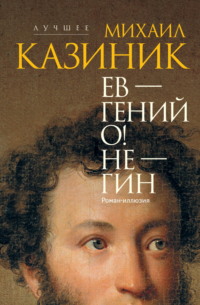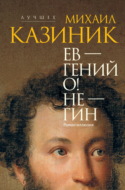Читать книгу: «Ев – гений О! Не – гин», страница 2
Глава первая
Онегин
1
Вы можете по памяти (или по книге) процитировать хотя бы одну яркую и интересную мысль титульного героя? Уверен, что нет! Все интересные, парадоксальные или даже крайне резкие строки принадлежат автору (поэту) и некоему третьему лицу – комментатору. Причем комментатор иногда ТАК сливается с поэтом, что не всегда понятно: это мысль автора или комментатора. Онегин ПОЧТИ НИКОГДА не выступает как автор прямой речи. Разве что в незначительных диалогах. «Ты им знаком?» Иногда с целью поиздеваться над чувствами друга. «Скажи, которая Татьяна?.. Я выбрал бы другую». (То есть Татьяну, не Ольгу.) «В глазах у Ольги жизни нет». (Ужас! Сказануть такое другу, у которого через две недели свадьба с Ольгой!) Участники любовных разборок немногословны. (Как, впрочем, и все остальные герои этого удивительно авангардного романа.) И только в конце романа, где Пушкин сочиняет письмо Онегина к Татьяне, появляется новый Онегин. Но… поздно! И здесь – исключение! Онегин, влюбившись в обновленную, даже полностью изменившуюся Татьяну, становится единственный раз и многословным, и даже поэтичным (куда там Ленскому!!!). О, если бы Ленский смог сказать Ольге так, как Онегин Татьяне:
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…
Но это в конце романа. А в начале?
Роман начинается с циничных размышлений Онегина – наследника «всех своих родных». Умирающего дядюшку он сравнивает с ослом. С каким ослом и где?
А вот где! «Мой дядя самых честных правил». Первая же строка «ЕО» отсылает нас к чу´дной басне Ивана Андреевича Крылова, строчка из которой «Осел был самых честных правил» была известна и стала, как сегодня принято говорить, «мемом» в пушкинском кругу. Вот вам и начало первой строки первой строфы первой главы. Сразу! Мой заболевший дядя – осел! А последняя строка первой строфы тоже о дяде. «Когда же черт возьмет тебя!» (То есть возьмет дядюшку-осла, который «самых честных правил».)
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!
Не могу не предположить, что «черт», появившийся в последней строке первой главы, неслучаен. Откройте окончание первой строфы первой песни байроновского «Дон-Жуана». Вот он, черт, собственной персоной!
Ищу героя! Нынче что ни год
Являются герои, как ни странно,
Им пресса щедро славу воздает,
Но эта лесть, увы, непостоянна,
Сезон прошел – герой уже не тот,
А посему я выбрал Дон-Жуана.
Ведь он, наш старый друг, в расцвете сил
Со сцены прямо к черту угодил.
(Перевод Татьяны Гнедич)
Нет никакого сомнения, что за время написания романа сам Пушкин и его взгляды немало переменились. А вместе с ним менялся и Онегин. Конечно же, в начале Онегин был задуман поэтом как типичный байронический герой: холодный, циничный, уже уставший от мира. (Вот здесь-то и пригодится игра с чертями у Байрона и у Пушкина.) Но шли годы, Пушкин перерос и самого Байрона, и его время. И новый Пушкин через восемь лет «заставил» своего героя оттаять, допустить слабость и влюбиться. Да еще как!
Какое огромное расстояние прошел пушкинский герой, как он изменился! В первой главе он, по сути, русский вариант Дон-Жуана. И не только «в науке страсти нежной», но и в… нахватанности, во всеоружии для покорения женских сердец.
А в конце последней главы он пишет своей ЕДИНСТВЕННОЙ ЛЮБВИ:
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…
Это великие строки о ЛЮБВИ!!!
Начиная первую главу и знакомство с титульным героем с ослов и чертей, Пушкин «реально круто» заворачивает интригу. Но разве так можно? Надо было развивать сюжет, показывая вначале замечательного, чуткого, интеллигентного героя, а потом, к удивлению читателя, раскрыть совершенно другой образ. Боже! Онегин ОКАЗАЛСЯ ЦИНИКОМ!!! А потом… бесконечно влюбленным.
А что за человек, который не мог «ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить»? А кто это МЫ, которые БИЛИСЬ, чтоб отличил? Еще одна интрига! Что-то вытворит в дальнейшем этот экстравагантный Ев(Гений) О(НЕГИН). ГЕНИЙ? О! НЕ! ГИН. Даже в имени и фамилии гипнотический магнит! Наверное, дальше будет про любовь. В первой главе про большую любовь еще ни слова. Так! Онегин – байроновский Дон-Жуан. Бесконечное количество женщин, мелкие интрижки. Ученик Овидия и его «Искусства любви». Хороший ученик, прилежный! И практику прошел в полной мере! Но какой роман без любви!? Без настоящей, красивой, глубокой. Может быть, Онегин влюбится во второй главе? Подождем… Особенно если учесть, что не только ГЕНИЙ О! НЕ! учился «понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь», а «мы все». Значит, свой. И с нами бились! И мы тоже не можем отличить. Потому что НЕ ГЕНИИ! О! НЕ!
2
«Пересмотрел все это строго. Противоречий очень много».
И действительно! Очень много! Странный образ получился!
С одной стороны:
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
А с другой…
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
(В следующих строках раскрывается значение слова «педант» в пушкинское время.)
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
(Курсив мой. – М. К.)
Ого! Вроде бы учился «чему-нибудь и как-нибудь». А с другой стороны: огонь «нежданных эпиграмм». Значит, писал! Да еще возбуждал улыбку дам!
Противоречие! Ведь чтобы написать огненную эпиграмму, нужно быть о-о-очень подкованным в поэзии. И Александр Сергеевич знал это как никто. А для того чтобы, «высокой страсти не имея» (то есть не имея страсти к поэзии), писать огненные и «нежданные эпиграммы», нужно владеть поэтической выразительностью. Даже большим поэтам далеко не всегда удавались эпиграммы.
С другой стороны, Онегин «ученый малый», но педант.
Так все-таки учился «чему-нибудь и как-нибудь» или «ученый малый»?
Правда, здесь ирония по отношению к тем, кто судил Онегина («решительно и строго»).
Так с иронией или без?
Онегин – друг (или приятель) Пушкина.
(А это – с иронией или без?)
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.
Опа!!! А здесь спрятана главная строчка. Она не об Онегине, не об отце Онегина, не об «убогом» французе – незадачливом учителе Онегина. Она именно СПРЯТАНА в светском разговоре. Вроде гуляли-бродили, и вдруг… НО ВРЕДЕН СЕВЕР ДЛЯ МЕНЯ (!!!). Она о Пушкине! То есть север вреден для Пушкина, и ни для кого больше. Больше не гуляет поэт на брегах Невы. Эта строка о высылке Пушкина из Санкт-Петербурга!!! А кто выслал? Царь! В ссылку! В Кишинев, в Одессу! Подальше от столицы, от дворца, от света! Не нужен в столице поэт-вольнодумец. Вот это пушкинская хитрость! Всего одна строчка! Эта строчка мелькнула и… тут же исчезла! (Некоторые читатели знают пушкинское
«Как бы это сообщить,
Чтоб совсем не рассердить
Богомольной старой дуры,
Слишком чопорной цензуры?»).
А дальше, словно ничего важного и серьезного не сказал, ведет повествование об отце Онегина. Посмотрите, какая странная характеристика! О чем она?
Вот они – четыре строчки про отца:
Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Все, что вам нужно знать об отце главного героя романа. Исчерпывающая характеристика!
А что о матери Онегина? Ничего! Почему? Да потому, что у романа в стихах есть тайная задача.
Он, этот роман, на самом деле вовсе не роман. Это гигантская эпиграмма. На кого? На всех! Но прежде всего НА СТРАНУ! Вот я и нарушил главный закон построения всякой книги. В самом начале осмелился высказать то, что должен бы сказать в ее конце, после долгих доказательств. Чтобы вы, дорогой читатель, приближаясь к завершению моих размышлений, вдруг воскликнули: «Убедил! Не роман, не энциклопедия, а… пародия на русскую жизнь!»
Ведь только что (в первой строфе) Онегин радовался смерти дядюшки, который умер и не заставил племянника «С больным сидеть и день и ночь, / Не отходя ни шагу прочь!», а еще «Вздыхать и думать про себя: “Когда же черт возьмет тебя!“» В конце второй строфы – первый (пушкинский!) выпад в сторону системы, которая решила, что для поэта «вреден север», и отправила его в ссылку. В третьей – четыре шутовские строчки – характеристика отца героя. В третьей же – об учителе:
Monsieur l’Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.
Действительно, нет! Онегина учил «убогий аббат». Стоп, стоп, стоп!!! Как может аббат быть «убогим»? Придется на короткое время поселиться в церковную историю Франции XVIII века.
На протяжении многих веков (с V по XVIII) статус аббата очень изменился. Вначале это был высокий титул настоятеля монастыря (аббатства). Постепенно статус аббата стал понижаться, аббатами к XVII веку даже стали называть всех молодых людей любого церковного звания. А в результате французской революции многие священники, спасаясь от гонений, бросились искать места, где можно прокормиться и защититься от атеистической власти. Многие из них бежали в Россию. Во-первых, став учителями французского языка детей из богатейших дворянских фамилий, они обретали хоть какой-то статус. Во-вторых, становились менее «убогими» (одно из значений этого слова во времена Пушкина означало «бедный»). А учитель-француз, да еще аббат, звучало престижно для нанимателей. Вот так за словосочетанием «Monsieur l’Abbé, француз убогой» стоит важный момент истории Франции. Учителем Онегина был бедный бежавший из Франции аббат.
И как после такого образования у Онегина с французским? После уроков с учителем, которого «прогнали со двора». А вот как:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал…
Опять странность! Значит, научил «француз убогой»? Шутя?
Да так, что Онегин стал одним из достойнейших представителей высшего света.
Может быть, зря прогнали Monsieur со двора?
Здесь Пушкин явно что-то недоговаривает. И здесь мы можем только догадываться. Даже бежавший от революции униженный революционной властью священник так или иначе напитывался «страшными» идеями свободолюбия.
Опять парадокс и несостыковка? Да нет, здесь все проще… цензура!!! Прогнали, и все! Пока не напитал парня (Евгения) «свободой, равенством, братством».
А кто учил Онегина «легко танцевать мазурку»?
Уж не Madame ли за столь короткий срок?
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил.
Ведь больше об учителях нигде не упоминается. Не было? Нигде больше не учился? Или даже не стоит упоминания? Вернемся к тексту:
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.
Вот это да! Это что, действительно роман? Четыре строчки про отца, еще несколько строк про учителей. Ни одной про мать!
Первые строчки пятой строфы – эпиграмма на русское образование и воспитание:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Остальное – вывод «экзаменаторов», то есть света.
И вновь эпиграмма:
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
Можно ли утверждать, что автор в своем РОМАНЕ очень серьезно и глубоко коснулся детства Онегина, жизни его отца? Да нет же! А вот образования КОСНУЛСЯ. Высшего света и его интеллектуального уровня КОСНУЛСЯ. И словно мимоходом вставил главную строчку, абсолютно не для цензуры, о собственной ссылке. Но строчка так незаметна в калейдоскопе событий, что вряд ли цензура будет ее вымарывать. И не вымарала-таки!!!
НО ВРЕДЕН СЕВЕР ДЛЯ МЕНЯ!!!
(А про педанта уточню, что во времена Пушкина это слово значило что-то вроде современного «умеет пустить пыль в глаза».)
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе