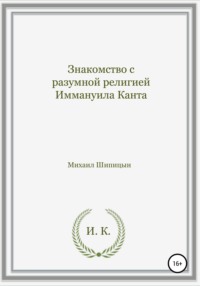Читать книгу: «Знакомство с разумной религией Иммануила Канта», страница 8
Вся загадка зла помещается – по меньшей мере в западной традиции – в том, что мы подразумеваем под одними и теми же понятиями различные феномены, такие как грех, страдание, смерть, объясняет Рикёр. Однако понятие «зло как неправильное действие» и понятие «страдание» принадлежат к различным гетерогенным категориям, одно – к вине, другое – к жалобе.
Жалоба появляется как противоположность виновности; тогда как виновность делает нас преступниками, жалоба характеризует нас как жертв. Совершать зло – прямо или косвенно – значит приносить страдание. В своей дуалистической структуре зло, совершаемое одним, находит свою вторую половину во зле, от которого страдает другой, по мнению Рикёра.
Грех, страдание и смерть есть выражения различных состояний человека в своём глубочайшем единении. С одной стороны морального зла возникает чувство виновности как его тёмная сторона: это чувство того, что человек поддался искушению со стороны довлеющей власти и как результат это чувство принадлежит истории зла, которая всегда доступна каждому. Это странное ощущение пассивности в самом сердце злого действия имеет такое влияние, что мы чувствуем себя жертвами самого действия, которое делает нас виновными. С другой стороны, поскольку наказание есть страдание, которого человек может быть заслуживает, – кто знает, может быть страдание есть в какой-то степени наказание за личные или общие ошибки, известные или неизвестные, размышляет Рикёр. Именно это тёмное основание, лежащее за виновностью и страданием, делает зло такой уникальной загадкой.
Рикёр рассматривает три уровня в повествовании о грехопадении – миф, мудрость и знание – которые ведут к разумной теодицее.
Двойственность понятия святого, которую описывает немецкий теолог Рудольф Отто (Rudolf Otto, 1869-1937), относится к мифу о власти, которая может принимать как тёмную, так и светлую сторону человеческого состояния. Миф включает в себя фрагментированное переживание зла в этих замечательных повествованиях о происхождении, но ни в одном повествовании нет возможного объяснения мироустройства, а с этим и объяснения загадки зла, отмечает Рикёр. Разумная теодицея оказывается захваченной в этом бесконечном поиске происхождения, который может оказаться слепым закоулком.
В Библейской традиции одним из важных последствий договора между человечеством и Богом является то, что он привносит в отношения измерение юридического процесса, утверждает Рикёр. Если Бог полагает процесс против Божьего народа, то же можно сказать и об отношении к самому Богу. Это обстоятельство приводит нас от мифа к мудрости: миф повествует, мудрость размышляет. Одно из объяснений можно найти в повторениях: всякое страдание заслужено, потому что это есть наказание за индивидуальный или общий грех, ведомый или неведомый, заключает школа Втрозакония. Книга Иова представляет классический пример для таких размышлений. В своём заключении окончательное богоявление не приносит ответа на индивидуальные страдания Иова, – размышления оставлены на дальнейшее их развитие в различных направлениях, замечает Рикёр.
Гностицизм поднял эти размышления до уровня схватки между богами, где силы богов борются в безжалостной схватке с армией зла, чтобы окончательно установить свободу для всех частиц света, захваченных тенью зла. Святой Августин использует понятия неоплатонизма для борьбы против гностицизма и утверждает, что зло не может пониматься как субстанция, поскольку представлять себе существо – значит представлять себе нечто, созданное Богом, что понятно и несёт добро. Его философская мысль исключает любую фантазию о зле как субстанции. Позднее появляется на свет новая идея ничто, то есть ничто / ex nihilo (Лат.) содержит тотальное и комплексное сознание, так в связи с этим появляется идея об онтологическом разделении создателя и создания, что приводит к присовокуплению «нехватки» на счёт созданий как таковых. Благодаря этой нехватке становится понятным, что существа со свободной волей в состоянии отвернуться от Бога-создателя и примкнуть к тому, что имеет меньшее существование, к ничто. Доктрина Святого Августина соединяет вместе онтологию и теологию и представляет, таким образом, новый тип повествования, – онто-теологию, заключает Рикёр.
Существование зла основывается исключительно на моральном взгляде на зло. Нет необходимости искать в иных направлениях, это кроется в злой воле. В своей книге «Против Фортунатуса» (Contra Fortunatum) Святой Августин приходит к заключению, основанному на таком взгляде, и утверждает, что всё зло есть или грех / peccatum (Лат.), или боль / poena (Лат.), понимаемые как наказание. Такой чисто моральный взгляд на зло приводит, в свою очередь, к наказуемому взгляду на историю. Ни одна душа не брошена в несчастье несправедливо и только божественное вмешательство вправе прекратить установленное наказание, отмечает Рикёр.
По его мнению, чтобы сделать идею того, что всякое страдание есть наказание за грех, убедительной, необходимо привнести концепцию безличного исторического греха, а также общее измерение, которые сопровождали доктрину первородного греха и греховной природы. Понятие первородного греха появляется как возможная концепция, которую мы можем приписать анти-гностическому знанию: первоначально содержание этого знания отрицается, но его повествовательная форма интерпретируется как рационализированный миф. Рикёр находит, что такое повествование о первородном грехе содержит в себе тройную ошибку: оно оставляет без ответа протест против незаслуженного страдания, но вместо этого осуждает на молчание через массивное обвинение всего человечества.
Рикёр предлагает три уровня теодицеи. На первом уровне он предлагает говорить о теодицее, чьё объяснение проблемы зла покоится на предложении, кажущемся однозначным: Бог всемогущ; добрая воля Бога безгранична; зло существует. Другая возможность лежит в объяснении, где цель аргументации явственно извинительная: Бог не ответственен за зло. Третья возможность использует ресурсы, удовлетворяющие как логику не-противоречия, так и системную общность. В этом случае теодицея носит онто-теологический характер, отмечает Рикёр.
В своей «Теодицее» Лейбниц располагает все формы зла под общим названием «метафизическое зло». Рикёр видит ошибку у Лейбница в том, что его окончательное толкование было не в состоянии предоставить доказательства. Лейбниц оказывается опять с жалобой несправедливо страдающего человека или народа, что разрушило концепцию о возмещении добром за зло, как это было с идеей о возмездии.
Кант в своей «Критике чистого разума» указывает, что теодицея при потере онтологической поддержки подпадает под рубрику «трансцендентной иллюзии». Переход от теоретической сферы разума к практической даёт Канту возможность обозреть связь между мыслью, действием и переживанием. Рикёр предпочитает использовать негативность диалектики как принцип динамической мысли, которая уже не есть знание, если знание определяется как субъект-объект отношение.
Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831) и Барт представляют два диалектических примера: Гегель со своей парадигмой определяющей диалектики, Барт со своей парадигмой неопределённой, а порой прерванной диалектики. С Гегелем мышление происходит с большей интенсивностью, с Бартом мыслится по-другому. У Гегеля диалектика состоит в том, что Дух делает различие между Богом и умозрением человека незначительным, у Барта диалектика увеличивает пропасть между Совершенно иным и миром созданий.
Логика Гегеля есть логика природы и Духа: кто-то должен умереть для того, чтобы нечто большее могло увидеть свет. Критика Рикёра состоит в том, у Гегеля скандал вокруг страдания упущен двумя путями: во-первых, он растворяется среди человеческих проблем; во-вторых, он принуждён к молчанию посредством замены на воссоединение противоречий с утешением, направленным к людям, остающимся жертвами. Историческая философия Гегеля заключается в том, что «история не есть та почва, где счастье растёт». Чем больше развивается и растёт система у Гегеля, тем более маргинализироваными становятся её жертвы. Страдание как выражение жалобных голосов в конце концов исключается из системы, заключает Рикёр.
Карл Барт видит во зле реальность, несопоставимую с добротой Бога и созданием. Кроме того, – реальность у Барта не может быть редуцирована до негативной стороны человеческого опыта, который только и был рассмотрен как у Лейбница, так и у Гегеля. У Барта зло мыслится как «ничто», которое враждебно Богу, – не только ничто, представляющее нехватку или лишение, но также разрушение и разложение. Таким образом, мы оправдываем противостояние страдающего человечества, которое отказывается поддаться включению себя в цикл морального зла на условиях доктрины возмездия. Тем не менее мы можем сказать, что мы «знаем» реальность зла настолько, что мы признаём, что Христос победил ничто, когда «уничтожил» себя на кресте, а также что Бог встретился в схватке с этим ничто в Иисусе Христе, в трактовке Барта. Такой «христологический подход» к проблеме зла является способом парадигмы мыслить более глубоко о зле, пытаясь думать иначе. Рикёр провидит разрыв в диалектике Барта, когда тот соотносит реальность ничто с «ошуюю Бога», – рукой, которая отказывает, когда правая совершает выбор: «Поскольку Бог остаётся таковым и по левую руку, Он также становится причиной и Господом ничто».
Поворот от теории к практике был совершён уже у Канта, утверждает Рикёр. «Невозможно найти никаких мыслимых резонов, откуда моральное зло в нас могло первоначально появиться». Как и у Святого Августина, и, возможно, как и в мысли, заключённой в мифе, Кант тоже подозревал демонический аспект причин человеческой свободы, хотя и делал он это с долей трезвости и без выхода за границы эмпирического знания, отмечает Рикёр.
Для действия зло встречается везде, где оно не должно быть, – нечто, подлежащее искоренению. В этом смысле действие совершает поворот к новому взгляду на мир. Действие реагирует, это не решение, но именно действие, направленное против зла. Наш взгляд, таким образом, направлен в будущее с идеей о проекте, который должен быть завершён, – идеей, которая схожа с идеей происхождения, которое должно быть обнаружено, размышляет Рикёр.
Вершить зло – значит приносить другому страдание. Насилие в этом смысле осуществляет всё время связь между моральным злом и страданием. Так, действие – будь оно моральное или политическое, – которое уменьшает количество насилия, совершённого одними людьми против других, уменьшает и количество страдания в мире.
Критика Рикёра состоит в том, что он признаётся в недостаточности одного лишь действия. Случайный и хаотичный характер распространения страдания посредством насилия или событий, которые не могут быть приписаны человеку – болезнь, старость, смерть – продолжают жечь нас старыми вопросами, и не только «почему?», но ещё и «почему меня?», «почему моего любимого ребёнка?».
При трауре, объясняет нам Фрейд (Sigmund Freud, 1856-1939), человек оставляет постепенно всё, что связывало, приносило чувство потери, как при потере своих инвестиций, – наше чувство потери любимого объекта мы ощущаем как потерю самих себя, совершение отрыва – как Фрейд именует работу траура – делает нас свободными для новых чувственных привязанностей и инвестиций.
Как первый способ делать интеллектуально необъяснимое противоречие проблемы зла продуктивным Рикёр предлагает ответить на это противоречие следующим образом: «Нет, Бог этого не хотел, ещё меньше Бог хотел наказать тебя. Я не знаю, почему это происходит так, а не иначе, но случайности и шансы составляют часть нашей жизни.» Такой ответ был бы нулевым уровнем в катарсисе от жалобы.
Второй способ освободиться от жалобы Рикёр видит в том, чтобы развить свою жалобу до жалобы против Бога. То, против чего человек жалуется, есть идея божественного «дозволения», которая служит своей цели в любой теодицее, и которую Барт сам пытался осмыслить, когда он определял состояние между победой, уже совершённой над злом, и полной манифестацией этой победы. Наша жалоба на Бога есть не что иное как нетерпеливость надежды.
Третий способ катарсиса от жалобы Рикёр видит в обнаружении человеком того факта, что вера в Бога ничего общего с объяснением происхождения страдания не имеет: мы верим в Бога именно несмотря на зло. Верить в Бога «несмотря на…» есть один из путей, который мы можем использовать при встрече с необъяснимым противоречием, когда нам необходимо преодолеть наш траур.
Немногие мудрецы достигли прогресса на пути полного очищения от жалобы на зло. Некоторые из них, отмечает Рикёр, заметили даже, что страдание имеет ценность в том, что оно поучает и очищает нас. Некоторые находят безмерное утешение в той идее, что Бог тоже страдал, что пакт, кроме своих проблематических аспектов, кульминирует для христиан в общности со страданиями Христа. Схожую мудрость находит и Барт, по мнению Рикёра, когда тот упоминает окончание Книги Иова, где повествуется о том, что Иов стал любить Бога ни за что, таким образом Сатана проигрывает своё пари с Богом: любить Бога ни за что – значит освободиться полностью от воздаяния, к которому жалоба взывает всякий раз, когда жертва оплакивает несправедливость своей судьбы.
Источники
Immanuel Kant: Religion within the Boundaries of Mere Reason and other writings, Cambridge University Press, 1998. В тексте книги упоминается как «Religion».
The Stanford Encyclopedia of Philosophy, copyright © 2021 by The Metaphysics Research Lab, Department of Philosophy, Stanford University, Library of Congress Catalog Data: ISSN 1095-5054
Paul Ricoeur: A Philosophical Hermeneutics of Religion: Kant в Paul Ricoeur Figuring the Sacred: Religion, Narrative, and Imagination, Minneapolis, Fortress, 1995
Paul Ricoeur: Evil, the Challenge to Philosophy and Theology, London, Continuum, 2nd edition, 2007
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе