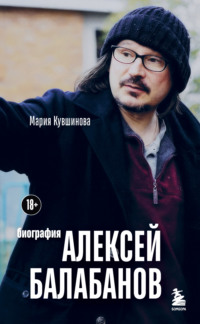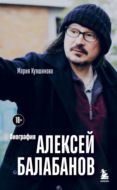Читать книгу: «Алексей Балабанов. Биография», страница 3
Глава 2
Начало: раньше было другое время

Алексей Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Социальное положение своих родителей он определял словом «номенклатура». Мать, Инга Александровна, закончила медицинский, занимала в Свердловской области административные должности (в том числе директора Института курортологии), была хорошо знакома с семьей Бориса Ельцина и в 1981 году ездила с ним (тогда секретарем Свердловского обкома) в Москву – на XXVI съезд КПСС. Отец, Октябрин Сергеевич, газетчик с техническим и юридическим образованием, позднее стал главным редактором отдела научно-популярных фильмов Свердловской студии; в числе его работ – фильм и книга о тайнах тибетской медицины. «Родители у Балабанова были не вредные, мама строгая, а папа – человек искусства, которому все было до лампочки», – говорит школьный друг режиссера Евгений Горенбург (позднее эта фамилия достанется комиссару из «Морфия» – ни у Булгакова, ни в сценарии Сергея Бодрова ее нет). «Как к таковому к кино отец отношения не имел, – вспоминал Балабанов. – Если бы он в свое время поехал главным редактором комсомольского органа Казахстана, то потом бы где-нибудь в Москве сидел, как его начальник дядя Юра Мелентьев». В 2004 году в интервью Игорю Свинаренко режиссер рассказал, как в восьмом классе вместе с отцом побывал на подмосковной даче Мелентьева, тогда министра культуры РСФСР, и был так впечатлен, что решил жениться на его дочери.
Свое продвижение по партийной линии (от секретаря комсомольской организации в институте до депутата горсовета), которое шло параллельно научной карьере, Инга Александровна Балабанова объясняла советским правилом в любой президиум непременно усаживать женщину. В ее рассказах быт свердловской номенклатуры предстает парадоксальным сплавом аскезы и привилегий. Отправляясь в Москву на XXVI съезд, она не догадалась захватить с собой деньги, но уже на месте выяснилось, что делегатов «отоваривали всем, чем хочешь». Хватило, однако, на несколько посылок в Горький, где ее сын тогда учился в институте и жил в общежитии: «Накупила консервов: тушенка, селедка в банках – в общем, самые вкусные вещи, – вспоминала она, – а эти посылки доставляли фельдъегерем. Вдруг Алешку вызывают с какого-то занятия в деканат: распишитесь. Прошел слух: “Балабанову из Кремля посылки присылают”. Он так смеялся потом, говорит: “Мама, ты меня опозорила на весь институт”».
В Свердловске Инга Александровна оказалась почти случайно в начале 1950-х. «У нас кровь польская, молдавская и украинская, – говорит она. – Папа родился в Бендерах. Мама моя украинкой была, а у папы кто-то молдаванин (по-моему, отец), а тетки – полячки. У Алеши смешанная кровь, но вырос-то он в России». После войны родители Инги Александровны по распределению попали на Дальний Восток. В начале 1950-х, к моменту окончания школы, она жила в Чите и бредила Ленинградом (в котором через тридцать с лишним лет поселится ее сын), но родители не отпустили – далеко; пришлось остановиться посередине страны – на Урале, где нашлись знакомые.
Когда Алексей Балабанов родился, его отец заканчивал юридический, мать доучивалась на медицинском, после поступила в ординатуру, потом писала кандидатскую диссертацию, а в тридцать пять защитила докторскую. «Я пошла работать, няньки какие-то были, – вспоминает она. – Одна три дня, три дня другая. Потом мне пришлось в год и восемь месяцев его отправить маме во Владивосток на год, потому что нас послали на целину работать – я была там участковым врачом на сельском лечебном участке». После возвращения семьи в Свердловск Алексей Балабанов пошел в детский сад. «Ребенок был общественный, – говорит его мама, – вырос в садике, потом – первый класс: повесили ключ на шею. Приходил из школы, звонил на работу: “Мама, я дома. Пойду погуляю”».
Летом Балабанова отправляли к украинским родственникам матери; семья деда, начальника станции, жила возле железной дороги; дед был страстным охотником и рыболовом. «Как только 25 мая кончается школа, Алешу – в самолет, – рассказывала Инга Александровна. – Или отец возил, или я. Сначала – в Одессу, где его встречали и везли в Измаил. Он все три месяца проводил там. А к первому сентября кто-то за ним ехал в отпуск – или я, или отец, или вместе. Все лето жил у бабушки, у родителей моих. Компания у него была хорошая – у меня же младший брат. Нас вообще четверо детей у мамы и двое еще приемных – большая семья была».
С летними поездками в Измаил связаны и первые литературные опыты Балабанова. «Русский и литературу преподавала учительница, с которой у него были плохие отношения, Ева Натановна, – вспоминала Инга Александровна. – Они не ладили, потому что Алешка говорит правду и имеет собственное мнение. Если он не согласен, он возьмет и скажет. Она его за это не любила, хотя ставила всегда четверки и пятерки. Он писал, между прочим, уже в десятом классе рассказы потихоньку, отцу показывал. Что-то вроде сценариев. Так вот, ехали мы из Измаила – целый день в Одессе, а самолет вечером улетал. Ходили на море купаться, а там проводили экскурсию в одесские катакомбы, в которых во время войны скрывались партизанские отряды. На Алешку это, видимо, произвело впечатление. И когда они в девятом или, может, в десятом классе сдавали сочинение “Как ты провел лето?”, он написал про эти катакомбы. И Ева Натановна, которая его терпеть не могла, вывесила <текст> в коридоре и сказала: “Надо писать так, как написал Алеша Балабанов. Это настоящее сочинение”».
Балабанов не раз говорил, что родители были слишком заняты, чтобы его воспитывать, подтверждает это и Инга Александровна, однако именно она настояла на том, чтобы он выучил иностранный язык. «Я очень часто ездила в командировки за границу, – говорит Инга Александровна. – Чувствуешь себя немного ущербно – с тобой разговаривают, ты слушаешь доклады, а языка не знаешь». Рядом с домом находилась школа № 2 с углубленным изучением иностранного языка; туда его и отдали, а в старших классах он занимался с частным преподавателем – коллега Инны Александровны была замужем за завучем школы, который вырос в англоязычном Шанхае, в семье русских эмигрантов.
Тот, кто учился в спецшколе
Несмотря на номенклатурных родителей и английскую спецшколу, Балабанов не считал себя мажором и удивлялся, когда об этом спрашивали: «Я в карты в подвалах играл, из рогатки стрелял». В одном из телевизионных интервью он вспоминает, как впервые убил воробья: выкопал ему могилку, поставил крест, сломал рогатку, а через неделю сделал новую и снова пошел в парк стрелять по воробьям». Ни мама, ни Горенбург, однако, версию Балабанова о его хулиганском детстве не подтверждают. «Рос он мальчиком спокойным, очень послушным, дисциплинированным, – говорила Инга Александровна. – Мне некогда было, я работала на двух работах, зарабатывать надо было деньги. Так что с ним никто не сюсюкался, никто с ним особенно не занимался. Читать начал очень рано. Он заболевал, я уходила на работу, оставляла его одного дома. Посажу на диван, стулья поставлю, горшок, телефон, книгу. Звоню периодически: “Алешенька, ты что делаешь?” – “Книжечку читаю”. С работы днем прибегу, накормлю его и снова на работу. В девять часов: “Алёша, спать”. Алёша шел, ложился. Никто его не укачивал, не убаюкивал. Раз спать, значит, спать. Раз кушать, значит, кушать. Он очень обязательный был, и при том всегда. Если сказал, что сделает или во столько-то придет – то уже однозначно. Его отец приучил, что нужно быть в жизни обязательным, честным человеком, никогда не врать. “Лучше скажи правду. Пусть она будет плохая, пусть тебе попадет за это”. И вот действительно, он всегда говорил правду. И потом, в своих картинах, душой он не кривил». Время их детства – шестидесятые – Евгений Горенбург считает лучшими годами в истории человечества: «Страна была объединена единым порывом, война закончилась, летали ракеты, звучали “Битлз” и “Хмуриться не надо, Лада”. В те годы, когда мы были детьми, еще сохранялась некая эстетика дворов, которая пришла к нам из 1940-х или 1930-х. Когда все друг друга знали, когда двери не закрывались, когда соседи ходили через балконы и все примерно были равны – что член райкома, что дворник, который жил в подвале. Леха вырос как раз в таком дворе. Везде была своя компания, в которую ты либо входил, либо не входил, а Леха входил. Он был нормальным парнем, не изгоем, не маменькиным сынком. Лидером, скажем, “молодежной преступной группировки” он, конечно, никогда не был, скорее все-таки пехотой. Школа у нас была действительно более элитарная, чем остальные. Поступали не все, поскольку английского языка тогда боялись. Что за тарабарское наречие? Но это, опять же, достаточно условно, поскольку у нас учились абсолютно социально различные группы – дети кочегаров, сторожей и дети интеллигенции».
В старших классах вместе с Горенбургом Балабанов организует музыкальный ансамбль. «Гитара, на которой я играл, числилась как школьный инвентарь, она очень дорогая была, чешская, – рассказывал он в 2006-м в интервью журналу «Эгоист Generation». – А я вскрыл ее отверткой. Поцарапал, испортил внешний вид. Эта история оказалась настолько серьезной, что родителей вызвали в школу: речь шла о моем отчислении». «До восьмого класса мы жили в параллельных мирах, – вспоминает Горенбург, – немножко антагонистических: он был из “А” класса, а я из “Б”. Нам тогда казалось, что есть некая несправедливость: к примеру, они сорвали урок у нашего классного руководителя, и мы пошли поколотили их, чтобы знали, как с нашим учителем обращаться. Поскольку у нас парни были поздоровее, пободрее, нам всегда удавалось их колотить и выигрывать в футбол. Поэтому мы не очень общались. А в восьмом классе – это был 1974-й год, апрель или май месяц – пришли ко мне два человека: Балабанов Лёша и Саша Главатский4, который сказал: “Давай сделаем вокально-инструментальный ансамбль”. У нас были инструменты в школе, а я занимался музыкой по классу фортепиано. Балабанов к тому времени умел играть на соло-гитаре на одной струне всего два произведения. Первым был, по-моему, “Гипи-Шейк”, но я в этом не уверен, а вторым – великолепная песня группы Royal Knights. После этого началась история вокально-инструментального ансамбля, который стал главнее всего остального». Две другие группы, к тому моменту уже существовавшие во 2-й школе, назывались «Кентавры» и «Ритм», третью Балабанов и Горенбург с товарищами назвали «Керри»: «Подо мной жил художник, он нам сделал трафарет, который можно было переносить на стены. Ну, а дальше началась совместная жизнь, поскольку мы большую часть времени проводили друг с другом».
Мать Александра Главацкого, совсем еще молодая женщина, работала переводчиком в «Интуристе» (Свердловск в то время был закрытым городом). «У нее собирались иностранные пластинки, и Саня стал обладателем по тем временам просто несметной сокровищницы, – говорит Горенбург. – То, что попадало в наш ареал, то мы и слушали – картина была совершенно случайная. Первой пришла некая пленка, про которую мне объяснили, что это “Оркестр Клуба одиноких сердец”. А в то же время “Мелодия” выпустила испанскую группу “Лос Анхелес”, которая играла каверы в основном в битловской эстетике, и они исполняли With A Little Help Of My Friend на испанском языке. То есть я сначала услышал песню на испанском, а потом – в обработке некоего “Оркестра” и подумал: “Чего же это они у испанцев своровали песню?” Надо понимать, что это был 1974 год, а “Битлз” играли с 1963-го – вот какой был у нас хороший железный занавес. В то же время появилось три, без сомнения, великих группы – Sparks, 1 °CC и Queen. Мы тогда были абсолютно обнаглевшими молодыми людьми и думали, что музыка может изменить мир, поэтому спокойно снимали группу Queen – играли и пели. Пели и по-русски. Балабанов из каких-то дебрей своего дворового бытия притащил военную песню “Почему иногда к нам приходят года, о которых давно позабыть бы пора”. Не было никаких комплексов, что мы что-то не умеем, не понимаем. И когда Балабанов пел, это было просто мучение».
Движущей силой школьного музыкального коллектива являлась, однако, не меломания. «Мы очень хотели нравиться девушкам, прямо до изнеможения, – объясняет Горенбург. – Девушки были некими мерцающими звездами, а ансамбль – ракетой, на которой, может быть, можно было как-то до них долететь».
Балабанов не раз вспоминал в интервью, что на выпускном вечере ему из-за девушки выбили два зуба; Горенбург, хотя и неохотно, рассказывает, как это произошло: «У него была одноклассница Лена. Приличная девушка, с моральными устоями, как и большинство, но на уровне подсознания – безумно провокативная. В цепкие лапы ее обаяния попадали мы все. Я никогда не задумывался, хорош ли Леха собой, красив ли, поскольку у нас не было конкуренции – в нашей паре я был лидером в силу большей жизнерадостности. Ему, как человеку рефлексирующему, доставалось меньше <женского> внимания. Мы оба понимали, что Лена безумно хороша, и я одну из первых песен посвятил тому, как я якобы ее любил. И у Лены случился роман с мальчиком из девятого класса – Игорем, а мы были в десятом. Не знаю, насколько глубоко заходил их роман, но Игорь просто с ума сошел, ходил за ней хвостом. Он был ростом под метр девяносто и увлекался карате, а Леха спортом профессионально вообще не занимался. Как этот Игорь проник на наш выпускной – да хер его знает.
Выпускной вечер – особый такой момент, когда все, что не случилось за десять лет, должно случиться. И Леха Балабанов ушел на третий этаж с Леной, где их и застал разъяренный ревнивец из девятого класса. Когда мы прибежали, ему уже выбили два зуба, он потом их долго и мучительно вставлял. Он был мирным человеком, в общем-то, но это была абсолютно мерзкая история: у Лехи, получается, не было выпускного. Причем, если бы Лена не хотела, чтобы он утащил ее на третий этаж, они бы там не оказались. В моем понимании, этот случай, конечно, на него повлиял, нанес ему некую психосексуальную травму».
Горенбург вспоминает о своих совместных юношеских поездках с Балабановым, в том числе – самую первую, на Кавказ, где случилось их «второе рождение». После 40-километрового марш-броска уставшая группа туристов поймала трактор и расселась на прицепе: «Это было 13 августа 1975 года – мне 15 лет, ему 16. Я был в середине, а Леха сидел у борта. Вдруг стало понято: что-то происходит, поскольку скорость, с которой тракторный прицеп поехал, была нереальной – у него отказали тормоза на горной дороге. В таком возрасте ты ни о чем не думаешь, ты же защищен родителями, высшими силами. Но Леха-то сидел у борта, и когда прицеп болтало, его буквально выносило над пропастью». Внезапно горная дорога пошла вверх, прицеп затормозил – серьезно никто не пострадал.
Позднее, уже в студенческие годы, они совершили путешествие по Северо-Западу СССР, с заездом в балтийские республики и Ленинград, куда оба впервые попали еще в школе: «У нас была любимая столовка на Невском, двухэтажная, в которую мы ходили, потому что там давали пельмешки и жареную тыкву, очень вкусную, похожую на кабачки, которые мы любили есть в семьях. Пельмени, жареная тыква, водка и вино на разлив. К тому времени у каждого образовался свой приоритет: Балабанов как эстет уважал шампанское, а я был, наоборот, врач с рабочих окраин уральского города – я пил водку. И мы брали бутылку шампанского и бутылку водки. Денег у нас было много – я хорошо зарабатывал в институтском стройотряде, у Леши тоже были деньги по разным причинам. Но иногда их совсем не хватало, потому что мы все пропивали, и тогда мы отправляли родителям телеграмму: “Все в порядке. Мама, вышли денег”».
Горенбург к тому моменту учился в родном Свердловске, Балабанов – в Горьком: о московском Институте иностранных языков имени Мориса Тореза абитуриенту из провинции нельзя было даже мечтать, и мать во время одной из командировок навела справки о языковом факультете Горьковского педагогического института, который набирал курс военных переводчиков. В 1976-м, в семнадцать лет, Балабанов сдал экзамен и, простившись с матерью на перроне, заплакал, потому что понял, что уезжает из дома навсегда.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе