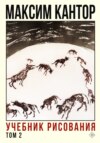Читать книгу: «Чертополох и терн. Возрождение Возрождения», страница 10
Подобно тому, как Вторая мировая война, дав пример бесчеловечности, стала причиной расцвета нового гуманизма в Европе (Камю, Пикассо, Белль, Сартр, Маритен, Жильсон), интернационального гуманизма, отвергающего культурные и государственные границы, так и Тридцатилетняя война вызвала ответную реакцию: интерес к человеческой судьбе вне зависимости от социальной, культурной и религиозной принадлежности.
Новая живопись Европы вглядывается в лицо человека так внимательно, как этого не делали мастера Ренессанса, как этого не может сделать фотография Караваджо. Вглядеться в лицо человека значит не просто буквально передать черты его лица и мимику, но отождествить себя с другим, понять переживания другого, поставить себя на его место, заставить зрителя пережить боль и мысль другого, обнаружить уникальную душу. И Рембрандт, и Веласкес, и Рубенс пишут такие портреты, каких человечество не знает: Рембрандт по сотне раз прикасается кистью к тени под глазом старика на портрете, чтобы нащупать то самое переживание, которое наложило эту тень, создало эту морщину. Фотографируя морщину, мы ничего не объясняем. Горе и размышление меняют лицо, но перемена столь многозначна, что морщиной лишь фиксируется, но не передается. Именно поэтому фотометод никогда не расскажет о сути вещей: суть спрятана глубоко и проявляется в таких нюансах, которые срисовать нельзя, можно лишь почувствовать и затем создать нечто аутентичное; то есть требуется пережить реальность – а затем придумать реальность.
Проще всего назвать новых художников – Веласкеса, Рубенса и Рембрандта – реалистами. Для такого определения есть основания: они и впрямь пишут людей похожими на таких, каких можно увидеть на улице; но это именно реализм, а не натурализм; у этих художников особенный, символический взгляд на вещи. Их портреты рассказывают о движении души больше, чем о физическом облике.
Помимо светских сюжетов, все эти мастера продолжают писать картины на христианские сюжеты, а это делать непросто: после магдебургской резни проповедь о всепрощении звучит неубедительно. Чтобы говорить о вере – нет, еще проще: чтобы вновь поверить, – надо найти новую интонацию. Рембрандт пишет много на библейские сюжеты, но всякий раз это крайне личный рассказ: ангел – это его сын Титус, а Моисей – голландский старик, похожий на брата художника; Веласкес пишет религиозные сюжеты крайне редко, чаще шифрует евангельский текст в светской картине; Рубенс пишет много всего – и светского, и мифологического, и библейского, и только в общем потоке религия может существовать. Идеологические картины Караваджо, заказанные и подсказанные церковью воинствующей, хороши для организации военных действий, но чувства любви к ближнему Иисус, давящий ногой гадюку, не пробуждает.
У раннего Веласкеса, в общей череде его бодегонов (бодегон – это продуктовая лавка, жанр связан с бытом трактира) имеются картины на религиозные сюжеты. Эти холсты необходимо сравнить с полотнами Караваджо, чтобы осознать принципиальную разницу. В картине «Христос в доме Марфы и Марии» (1618, Национальная галерея, Лондон) евангельская сцена отнесена на второй, даже на третий план изображения, воспринимается как «картина в картине», словно сценка в далеком окне. На первом плане мастер рисует – со всей «фламандской» тщательностью и любовью к вещам – двух женщин, занятых стряпней. Женщина, толкущая в латунной ступке чеснок (головки чеснока, еще не использованные, лежат на столе рядом), старуха, дающая ей указания, тарелка с рыбами, очищенные яйца – зритель даже может угадать характерное блюдо испанской кухни, которое они готовят. Эта сцена – абсолютно конкретная, рассказанная зрителю с любовью к тем, о ком рассказ, совершенно затмевает абсолютно условное изображение Христа в глубине картины. Собственно говоря, Христа там могло бы и не быть. И то, что он здесь случайный гость, можно понять по другой картине – «Мулатка» или «Кухарка» (1620, Институт искусств, Чикаго): темнокожая кухарка стоит перед разделочным столом, соображая, за какое дело приняться в первую очередь, – перед ней разложены предметы стряпни. Это крайне живой характер. Эту же сцену, повторив композицию в деталях, Веласкес воспроизвел в том же 1620 г. (Дублин, Национальная галерея), но на заднем плане – точно так же, как в случае с Марфой и Марией – врисовал маленькую картину в картину большую: появилась фигурка Христа за дальним столом. И новая композиция стала называться «Ужин в Эммаусе». Евангельский сюжет не составляет основного содержания картины, он присовокуплен, спекулятивное рассуждение, мол, значительное событие проходит незамеченным, в то время как быт отвлекает от духовной драмы – не спасает. Евангельский сюжет входит в противоречие с основным сюжетом картины, мешает; мало того, при желании можно толковать растерянность служанки перед пустым столом – как упрек в церковном оброке – нечего подать к столу в пустом доме, а требуется. Это не столь изощренное толкование, как может показаться: контраст реального живого быта и вымороченной идеологической сценки именно к такому и толкает.
Веласкес утверждает мощным реалистическим письмом, любовью к лицам кухарок и уважением к быту, что никакая идеологическая картинка не идет в сравнение с реальным бытом труженика. Написано именно это и ничто другое. И если бы даже возникло желание усомниться в такой трактовке, то «Пряхи» зрелого Веласкеса, написанные ровно на ту же тему, с тем же противопоставлением реального труда и идеологической праздности, развеют сомнение. Сколь разнится такое сопоставление труженика и его веры с идеологическим письмом Караваджо, который всегда изображает умильную сцену в трактире, где бедные крестьяне дивятся на одного из них, внезапно озаренного светом, и понимают, что случилось чудо и им явился Иисус (вариант: апостол). Быт для Караваджо нисколько не важен; равнодушно сфотографированный и погруженный во мрак, быт призван придать натуралистическую достоверность чуду – вот, действительно так случилось: среди заурядной публики явился Спаситель. Веласкес переиначивает рассказ: труженики жили прекрасной, тяжелой, радостной жизнью – а где-то на заднем плане проходила церковная дискуссия, не имеющая отношения к заботам дня.
Помещать евангельскую сцену вглубь жанровой сцены, занижающей значение религиозного сюжета, – это прием сугубо фламандский; впервые такое встречаем у Питера Артсена в картине «Мясная лавка со Святым семейством, раздающим милостыню» (1551, Художественный музей Северной Каролины). Мощной кистью написан мясной ряд: сосиски, колбасы и мясные туши, сделавшие бы честь Сутину и Рембрандту – а в маленькое оконце зритель может увидеть крохотную сценку с убегающей на ослике Марией. Еще разительнее тот же прием Артсена в холсте «Христос в доме Марфы и Марии» (1552, Вена, Музей истории искусств) – там весь первый план занимает гигантский окорок, а между предметами кухонной утвари, непосредственно под окороком, есть просвет, в который можно рассмотреть евангельский сюжет. Иоахим Бейкелар, ученик Артсена, в картине «Христос в доме Марии и Марфы» (1566, Амстердам, Государственный музей) изображает лавку с битой птицей, тушками кроликов и окороками; женщины заняты тем, что ощипывают петуха, – если заглянуть в заднюю дверь, видно евангельскую сцену. В сущности, тот же прием использует и Брейгель, вынося евангельскую сцену на задний план картины или вовсе за картину – так, в «Крестьянской свадьбе» все гости смотрят на дверь, куда должен войти Иисус, и мы не сразу понимаем, что изображен брак в Кане Галилейской. Связь (не перекличка, но прямая связь) между «Марфой и Марией» Веласкеса и «Христом в доме Марфы и Марии» Артсена – очевидна. И, хотя нет надобности в детективном расследовании, провести его несложно. С большой долей вероятности Веласкес видел картину Рубенса и Снейдерса «Узнавание Филопомена», написанную в Мадриде в 1609 г. и находившуюся в собрании премьер-министра, герцога Лерма; это полотно выполнено по лекалам картины Артсена, повторяет прием: натюрморт первого плана практически закрывает античных героев. Детективные сюжеты отвлекают от главного – упомянутые картины Веласкеса и Артсена абсолютно идентичны, применяется тот же ход рассуждения, та же манера противопоставления идеологии и реальности. Подсмотрено, скорее всего, у Рубенса, но нет нужды (или весьма небольшая) узнавать, каким образом информация циркулирует внутри культур. Сопоставление натюрморта и религиозной/мифологической сцены – характернейший фламандский ход рассуждения: Рубенс даже писал в сотрудничестве со Снейдерсом или с Яном Брейгелем Бархатным – у последних натюрморты получались выразительнее. При этом ракурсное рисование, присущее фламандцам, связывало воедино разнородные элементы композиции. Помимо прочего, в упомянутых фламандских композициях Питера Артсена возникают властные образы тружеников, столь схожие с образами ремесленников Веласкеса, что это родство убеждает более, нежели переклички нищих Веласкеса с актерами постановок Караваджо. «Кухарка» Питера Артсена (Брюссель, Королевский музей) наделена той же уверенной крепкой осанкой, что и водонос Веласкеса. Конечно, прямым учителем Веласкеса является Пачеко; разумеется, Веласкес дважды посещает Италию, и широко обсуждается влияние Караваджо (на кого он только не влиял). В то же время уроки Артсена недоказуемы; но более близкого по темпераменту, по манере красочной кладки мастера трудно найти. Изобильное застолье, призванное оттенить объедки религиозного чувства, – это не ирония, не издевка, но признак полнокровного чувства жизни, которое не терпит ханжества.
Именно нетерпимость к ханжеству есть отличительная черта искусства Рубенса, и крепкие фламандские крестьяне, даже если на полотнах Рубенса этим толстякам суждено участвовать в религиозных мистериях, не лицемерят. В полотнах великого фламандца, как и в холстах его предшественника Артсена, явлена та степень свободы и отсутствия показной набожности, какая идеологии Контрреформации несвойственна. Рубенсом Веласкес восхищался, Рубенс прожил в Мадриде едва ли не девять месяцев; у Рубенса ли, у Артсена ли, или попросту обнаружив в себе самом схожий темперамент, но Веласкес развил то (назовем его «фламандским») чувство красочной полновесной кладки, которое вовсе несхоже с итальянскими образцами того времени.
Чтобы резче обозначить «фламандское» отношение Веласкеса к быту, не караваджистское манерное и томное, натуралистическое и сухое – но пряное, плотное, – надо вспомнить картину «Пьяницы».
3
В картине «Пьяницы, или Триумф Вакха» (1628–1629, Прадо) фламандская живопись и живопись Караваджо сопоставлены настолько прямо, что пародийный (скажем мягче: полемический) характер произведения заметен сразу. Мастер сознательно сталкивает две культуры, предлагает извлечь из столкновения урок. Автор пишет по-рубенсовски, влияние Рубенса – в манере лепить голову легкими тенями, да и в характерах крестьян. Прием сопоставления трактирной сцены с мифологической Веласкес уже освоил в ранних бодегонах, тогда Веласкес помещал евангельскую сцену вглубь композиции. Гостем бодегона является на сей раз не Иисус, но Вакх; причем Вакх словно сошел с полотна Караваджо: полунагой, в том самом веночке, такой же жеманный, полнотелый и гладкий. И на этот раз гость крестьянского застолья не удовлетворился задним планом, но сел за общий стол. Буквальное описание картины выглядит странно: языческое божество в окружении жителей деревни занято тем, что раздает своего рода благословения крестьянам: те преклоняют перед ним колено, и Вакх водружает им на головы такие же веночки, коим увенчан он сам. На символическом уровне художник изображает языческую евхаристию: причащение вином и обретение вакхического просветления. Получив венок на голову, крестьяне в расслабленном умилении откидываются назад (возможно, это символизирует буквальное опьянение). И такая аллегория не выдумана, но буквально навязана художником: крестьянин на первом плане преклоняет колено перед языческим божеством, точно перед алтарем в храме. Другой из тех, что уверовал в Вакха, прижимает руку к груди жестом раскаяния, такими жестами Эль Греко наделяет молящихся. В картине есть и моральный урок: каждый из сотрапезников интереснее как характер, состоятельнее как личность и достойнее как труженик, нежели их жеманный гость. Главный герой картины совсем не Вакх, а усатый крестьянин в лихо заломленной шляпе, человек с открытым лицом, он смотрит прямо на зрителя и улыбается. Кривозубая улыбка, щербатый рот, веселый взгляд отсылают к персонажам Тенирса и Броувера, Йорданса и Рубенса, к веселым нищим – никак не к умильным беднякам Караваджо. Этот человек не смотрит на Вакха, смеется чему-то своему: выпивке после рабочего дня, компании товарищей. Он, в отличие от прочих, не снимает шляпу (тот, что подле него, уже тащит шляпу с головы, чтобы подставить лоб под венок), а этот человек причастия венком не принимает: жить следует своей собственной жизнью. Вот этот крестьянин в шляпе и есть центральный персонаж картины, а праздный пухлый Вакх, который берет на себя роль священника, кажется на фоне крестьян комичным. Метафизический уровень прочтения картины – озадачивает; перед нами пародийный вариант сюжета «Христос в Эммаусе». Причем, поскольку Веласкес уже неоднократно писал данный сюжет, трудно вообразить, что сопоставление не приходит в голову ему самому. Напротив, Веласкес даже настаивает на этой кощунственной шутке. От имени караваджистской школы не Христос вовсе пришел к зрителям, но Вакх – праздный и ленивый бог. Его пророчество и его учение просто и легко усваиваются и лентяями приняты охотно. Но сколь бы привлекательно-пьяной такая вера ни была, цельный характер умеет ей противиться.
Помимо прочего, в данной картине присутствует мысль об идеологии и реальности, которую идеология тщится описать. Проповедовать пьянство среди пьяниц, как и проповедовать христианство среди искренних христиан, – не чревато ли это фальшью? Вакх – идеолог пьянства; поместив идеолога в окружение реальных пьянчуг, которые пьют и без рекомендаций, художник дает возможность сравнить идеологию и реальность. Ровно та же метафора в картине Веласкеса «Кузница Вулкана». Веласкес рассказывает, как Аполлон пришел с ревизией в реальную кузницу – и зритель может сопоставить вялое нежное тело идеолога труда с крепкими телами ремесленников. Аполлон даже дает советы труженикам: он назидательно поднял указательный палец. Поразительно в данной композиции то, что голова Аполлона (увенчанная тем же веночком, что на Вакхе) окружена сиянием, присущим отнюдь не языческим богам, но лишь христианским святым и апостолам. Возможно, это не вполне осознанная издевка над идеологией Контрреформации, но воспринимается так. Фигура праздного Аполлона, совершенно караваджистская фигура, отсылает к назидательной живописи итальянской Контрреформации, и в целом возникает ощущение того, что данный гость пришел с картины Караваджо, где исполнял попеременно то роль языческого бога, предающегося неге, то роль страдающего апостола. В испанской кузнице, среди смуглых мускулистых тел кузнецов, гость выглядит нелепо, а его поучение неуместно.
Религиозная идеология и мифологические аллегории оценены невысоко по той элементарной причине, что жизнь – ежедневная, трудная, военная (что в Нидерландах, что в Испании) – нуждается в осязаемых истинах и в конкретном чувстве.
Идеологическая схема Караваджо не имеет (и не имела никогда) никакого отношения к тому, что реально происходит в Европе. Жеманный Вакх и умильный Христос в Эммаусе не объяснят ничего. Ретроидеология Контрреформации, возникшая задним числом, оперирующая догмами, незамедлительно выродилась в салон; будущее караваджизма – это творчество салонного художника Бугро. Но, как бы то ни было, европейская живопись не может проститься с христианской темой: картина произошла из иконописи и разорвать эту связь не сможет никогда; иное дело, что вернуть религиозную живопись в полной мере невозможно. Веласкес пишет – непосредственно после бодегонов – несколько сугубо идеологических, религиозных картин, откровенно слабых; несомненно, их вялость понимает и он сам. Требуется написать «Возвращение блудного сына», чтобы снова найти основание для веры. Возродить веру можно лишь через возрождение гуманизма.
В композиции Веласкеса «Ужин в Эммаусе», переделанной из картины «Кухарка», есть дополнительный смысл, помимо очевидного, образовавшегося от внедрения евангельского сюжета в бытовую сцену. Первый уровень прочтения: вторичность религии перед бытом. Второй уровень: насилие религии над бытом. Кухарка оглядывает пустой стол в недоумении: кормить Спасителя надо, а кормить нечем. Хотел ли художник сказать, что церковный оброк невыносим, – такая догадка выводит нас на социологию искусства; согласно неписаной традиции, толкование слишком прямолинейно. Но самые простые догадки и есть самые верные. Диего Веласкес говорил ровно то, что хотел: растерянная кухарка на пустой кухне показалась уместным сопоставлением с идеологической картинкой, следовательно, мастер хотел обозначить контраст между скудностью быта и потребностями идеологии.
Отныне верить можно только в осязаемое, в то, что очевидно не содержит идеологического расчета.
В контексте данного рассуждения любопытно, что Питер Артсен получал (вполне традиционно, как художник испанских Нидерландов) заказы от храмов, но с течением времени остановился на жанровой живописи – и вплел в жанр евангельский рассказ.
Художнику надо отыскать человека, который искренне верит в добро, и, скорее всего, такой человек сыщется не в храме, а в трактире. Надо отыскать героя, показать его конкретное лицо, его искренние глаза, его честные руки; надо найти реального, не плакатного, человека, который убедит зрителя, снова воплотит наивную веру вопреки всепобеждающему произволу – творимому именем Бога. Такой задачи вовсе не было в XV в., во времена Боттичелли или Мантеньи, и (прозвучит странно) даже во времена Босха такой задачи не было. Изобразить доброго Христа, пусть даже окруженного мучителями, было легко, в светлый благостный лик верил каждый – и каждый зритель готов встать на защиту доброго Иисуса. Характерна реплика французского рыцаря Крийона – глядя на картину с мучениями Христа, непревзойденный рубака воскликнул: «Господи, если бы я там был, тебя бы не распяли!» Но именем доброго Иисуса всю Европу утопили в крови, резали младенцев и беременных, сжигали деревни – и всякая сторона, убивая, клялась именем Спасителя. Мировую бойню (Европа воспринимается как полноценный мир, Восток крайне далек от сознания христианина) почувствовал и пережил каждый, отныне поверить в проповедь добра непросто. Какое лицо надо нарисовать герою картины, призывающей к добру? Плакатные лица с картин Караваджо не убедят уже никого, и художник – если он не пропагандист, а художник искренний – должен отыскать нового героя для новой картины. Но никого похожего на искомый идеал – нет. Какой же донатор (а прежде вельможи, заказывавшие образ Иисуса для храма, вставали на картине во весь рост, представляя светлую идею) сможет выглядеть нефальшиво? Еще час назад этот вельможа – как граф Паппенгейм, или Спинола, или Валленштейн – командовал отрядом кирасиров, вырезающих деревни. Спору нет, и во время Высокого Возрождения кондотьеры были жестоки, а прелаты жадны – но все измеряется пропорционально. Тогда, во время Высокого Возрождения, философы и художники тщились вразумить жестоких властителей и алчных прелатов – и порой вразумляли.
Тот процесс в искусстве XIV–XV вв., что называют Возрождением, был не просто оживлением интереса к античной культуре – но прежде всего оживлением христианской веры: веру в Христа мастера Ренессанса укрепляли античностью, присовокупили к христианской истории опыт и мощь Греции и Рима, объединили историю, показали, что вся история человечества есть путь к Христу. Тогда, на примере Рима и Греции, сумели показать, что гражданский закон и общее республиканское благо есть условие христианского общежития – и даже, пусть на мгновение, убедили некоторых. То было великое усилие – но теперь, на пепелище мировой войны, что делать? Так бывает, когда врач, пустив в ход самые радикальные лекарства, истратит весь арсенал средств, а болезнь прогрессирует – и других лекарств у врача нет. Возрождение уже однажды было, и тогда, когда оно возникло, оно тоже возникло по нужде – как реакция на схизму, на раскол церквей, на падение авторитета Рима, – и тогда Возрождение помогло. Усилиями неоплатоников и гуманистов, философов и художников состоялось возрождение веры: сумели найти новые аргументы для добра. Тогда все действовали заодно, на миг показалось, что и князья, и кондотьеры, и банкиры, и купцы, а не только художники и философы хотят оправдать веру в Бога, хотят найти аргументы в защиту общечеловеческой морали – как основы мироздания. Правда, быстро выяснилось, что единодушия не было: князья и банкиры думали о своем, имели в виду не буквально то, что имели в виду философы. И как оправдать добро еще раз, когда использованное однажды лекарство уже не действует?
Требуется возрождение Возрождения – а природа общества отрицает такую возможность. Теперь художнику придется действовать в одиночку, ему уже просвещенный двор не поможет, Лоренцо пенсию платить не станет. Римской курии нужны пропагандисты, а гуманисты не нужны. Легко сказать: возрождение Возрождения, но тогда, в XIV в., гуманистов было много и их не ловили поодиночке и не сжигали на кострах, тогда именем Иисуса не созывали стотысячные армии для истребления городов. И врач, у которого больше нет в арсенале лекарств, должен изобрести новое.
Именно о возрождении Возрождения говорит и думает рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Он именно так и формулирует свою задачу: «Я тот, Санчо, кто в наш железный век возродит золотой»; идальго считает, что век рыцарства не закончен, что и впрямь можно, как двести лет назад, бросить вызов великану – и победить. Идальго не останавливает тот факт, что его принцесса – это девица с постоялого двора, его конь – полудохлая кляча, а шлем – тазик для бритья. Он решил спасти христианский мир и заодно гуманистическое искусство. Если задача ясна – значит, можно работать.
С тех пор, как написано «Евангелие от Дон Кихота» (определение, данное Унамуно роману Сервантеса), путь возрождения Возрождения обозначен: веру можно сделать убедительной только через личный подвиг – сколь бы нелепым подвиг ни казался. Безумный идальго, проповедующий в пустыне моральные истины, смешон, но беззащитная искренность – единственный способ утвердить самоотверженную любовь. Таких нищих безумцев в изобилии наплодила европейская война. Старики Рембрандта – это состарившиеся в нищете гезы, которых забыло собственное правительство; они выходили против испанской армии, а сегодня помирают в тесной каморке. Только честный нищий в одиночестве может говорить проповедь. Глазами такого героя зритель может увидеть, что прощение возможно. Карлик-шут, воспетый Веласкесом, смешной уродец, развлекающий мадридский двор, он может стать примером героизма и будет велик, как короли.
Мигель де Унамуно ввел слово «кихотизм» для определения новой религии – и словом «кихотизм» надлежит называть возврат христианства, который произойдет вопреки государству, политике и даже церкви. В конце концов, – пишет Унамуно, – Дон Кихот не поехал во Фландрию и Америку. И впрямь, пожелай некий идальго отличиться в ратном труде – ему прямая дорога была бы на усмирение мятежных провинций или на покорение дикарей; однако рыцарь выбирает пустыню и одинокий подвиг в битве с великанами; он же не за политику сражается, а во имя веры.
«Кихотизм», рожденный Тридцатилетней войной в Испании, Фландрии и Голландии, должен был преодолеть караваджизм – и преодолел.
Не выбрать апостола из толпы, чтобы его внезапное возвышение осознал простой люд, как это делала идеология Караваджо, но объявить убогого и калеку героем на том основании, что он исповедует принцип гуманности. Такой поворот мысли не присущ Контрреформации – этому Веласкес учился у фламандцев.
В 1820-х гг. Гегель рассуждал о голландской живописи XVII в. («Лекции по эстетике» и «Эстетика») как о свидетельстве осознанной социальной эволюции. У Гегеля есть поразительная фраза, оправдывающая «мелкость» сюжета – например, натюрморта: «…формально говоря, какая-нибудь жалкая выдумка, пришедшая в голову человеку, выше любого создания природы, ибо во всякой фантазии присутствует все же нечто духовное, присутствует свобода». Натюрморт с окороком, за которым можно разглядеть бегство в Египет, или безумец с тазиком для бритья на голове, ищущий великана, – это лишь по видимости о разном; на деле – о том же самом: о поиске свободы. Свобода – это всегда вопреки, это всегда наоборот, не так, как ожидали, – но подчиняясь единственно совести.
Политическая свобода для Нидерландской республики и свобода в терминологии империи Габсбургов – это несхожие понятия, но – и в этом особенность искусства Тридцатилетней войны – Рембрандт, Веласкес и Рубенс в своих рассуждениях о свободе подчас договариваются до родственных формулировок. Старик Рембрандта, карлик Веласкеса и пьяница Рубенса – они могут понять друг друга.
4
Нет возможности рассматривать творчество вне прошлого, которому художник наследует: мы мало поймем в Веласкесе вне опыта Рогира ван дер Вейдена, Бартоломе Бермехо и Питера Артсена – Веласкес наследует им всем. Даже в политике империя Габсбургов в гротескном виде воплотила смелые фантазии Карла Смелого, и вечная вражда бургундских герцогов с французскими королями отразилась в культуре Габсбургской империи, врага Франции; в культуре же эта связь выражена наглядно. Если игнорировать преемственность, то никак не прочесть «Менин» Веласкеса; что, как не протяженность истории, описана этим взаимным отражением зеркал? Если не помнить о борьбе империи с республиканскими Нидерландами за передел карты, то как оценить бесконечные карты на стенах в интерьерах Вермеера и Веласкеса? История столь властно напоминает о себе в каждой картине, что прошлое игнорировать невозможно.
Но также нет возможности понять творчество Веласкеса и без будущего: то есть без Гойи и Пикассо, без Унамуно и Лорки, без испанской революции и испанской реакции. В конце концов, если Веласкес был великим живописцем и высвободил из сонного состояния алгоритмы культуры, привел их в действие, то следует судить о художнике по плодам его работы. Мы судим о философе по тому, как его учение влияло на сознание; мы судим о политике по законам, которые он внедрил; и правильнее всего судить о художнике по его идеям в развитии. Веласкес работал в то время, когда столкновение империи с республикой было основной темой испанского искусства. Та самая испанская культура, которая в имперской ипостаси диктовала волю прочим странам и преследовала инакомыслящих, явила миру республику анархистов в 30-х гг. XX в., и уже прочий мир (которому некогда Испания диктовала имперскую волю) бросился подавлять нежелательную анархию. Делать вид, что Веласкес не имеет к историческому парадоксу отношения, – невозможно. Данный парадокс заложен в семантике живописи Веласкеса, в его системе зеркал, в его «Менинах» и карликах, отражающихся в монархах. Мы смотрим сегодня на Веласкеса сквозь время, в котором важна и республика анархистов, и крах этой республики, и атака на республику франкистов, объединенных с католической партией, и Гражданская война Испании, и Герника, и режим Франко, и реставрация монархии, и бегство короля Хуана Карлоса с украденными из казны 90 миллионами долларов. Искусство – не набор эпизодов, искусство невозможно разъять на фрагменты без того, чтобы утратить суть, – ибо суть искусства в неразрывной преемственности. Структура живописи XVII в. такова, что предметом исследования становится идея истории: так развивается концепция прямой перспективы, оттого возникает дымный сумрачный цвет пространства. Шпенглер называл коричневый историческим цветом, употреблял термин «коричневый», чтобы описать доминирующий тон картин Рембрандта и Веласкеса – цвет пространства, цвет тайны, обволакивающей далекие горизонты. Это цвет будущего, куда предстоит проникнуть, цвет истории как таковой – Шпенглер называл его выражением «фаустовского духа», присущего западной цивилизации. Если принять, что целью движения истории является свобода (вернемся к анализу этого понятия позже), то столкновение республиканской и имперской идеи в творчестве Веласкеса является главной проблемой живописи исторической. История представляет нам идею республики и идею империи одновременно, с тем чтобы мы сами сделали вывод.
Остров Баратария (где Санчо был губернатором), остров Мидамоти (который навестил Пантагрюэль с учениками), остров Утопия (который посетил мореплаватель Гитлодей) созданы фантазией Сервантеса, Рабле и Мора почти одновременно – но, думая об этих островах, надо держать в памяти и остров Фуэртевентура, куда философа Унамуно сослала диктатура Примо де Риверы. Разъять эти знания нельзя: что именно фантазия и что реальность, произведенная фантазией, уже непонятно. Империя и республика в новом понимании историзма вошли одна в другую как пластические идеи, как образы мышления. В теле живописи этот диалог из социального анализа превратился в метафизический; красочный слой сплавил живопись жовиального Артсена и педантичного Рогира. Как анализ истории живопись Веласкеса, Рембрандта и Рубенса стала рассуждением о возможности свободы, хотя часто на первом плане политический сюжет.
Алехандро Вергера все в той же замечательной статье пишет о пропагандистском аспекте картин:
«Некоторые картины, написанные в Нидерландах и Испании в XVII в., по-разному рассматривали конфликт между двумя народами и его последствия, как правило, с пропагандистским намерением. Среди них “Сдача Бреды” Веласкеса и “Восстановление Байи” Хуана Баутисты Майно, обе вещи заказаны к 1635 г., чтобы украсить Зал королев дворца Буэн-Ретиро в Мадриде, сегодня находятся в Музее Прадо».
Было бы правильно начать анализ картин Веласкеса с этой монументальной вещи, заказанной Габсбургским двором. «Сдача Бреды», посвященная войне Испании и Голландии, суммирует противоречия империи и республики. Картина написана с учетом опыта Караваджо, в несомненной связи с бургундской эстетикой, а сочно написанный круп коня – очевидная дань фламандскому языку живописи. Первая мысль при взгляде на круп коня, помещенный на первый план картины, о холсте Караваджо «Обращение Савла» – именно там конь беззастенчиво повернут хвостом к зрителю. Но то, что для Караваджо – эпатаж, фотографический эффект, шокирующий неожиданным ракурсом, то для фламандца – обдуманный прием: Йорданс и Рубенс часто выносят зады персонажей на первый план картины не потому, что такой кадр получился, но обдуманно.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе