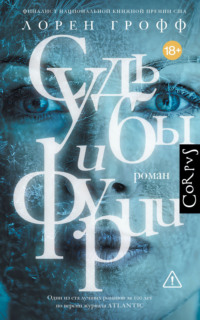Читать книгу: «Судьбы и фурии», страница 5
Минуту спустя Лотто как бы ненароком тоже вышел за дверь.
Поднялся на лестничный пролет и нашел Матильду у двери старой соседки. Под ногами гудело празднество; находясь внутри, трудно было даже представить, как мощно они шумят. Странно, что старуха до сих пор не вызвала полицию, как обычно бывает. Видимо, еще нет десяти.
Дверь на улицу распахнулась, группка клоунов с топотом повалила вниз в их квартиру, повеяло холодком, голую задницу Лотто обнесло гусиной кожей. Но скоро входная дверь хлопнула, закрываясь; открылась дверь в их квартиру, открылась и поглотила клоунов.
Впившись губами в изгиб ее шеи, он высвободил левую грудь из бюстье. Развернул Матильду, чтобы прижать щекой к двери, но она, сверкнув глазом, вырвалась, и он покорно стал миссионером стоя. Пусть это не так возбуждающе, все равно – молитва богам любви.
В квартире же за той дверью Бетт одна, в темноте, жуя бутерброд с яйцом всмятку, бдительно прислушивалась к празднеству, что кипело внизу. И вот он, узнаваемый скрип лестницы, и Бетт трепещет при мысли, что это крадется вор, а у нее за горшком папоротника пистолетик припрятан. Отложив бутерброд, она прижимается ухом к двери.
Нет, тут скрип другого рода, а потом шепот. Пробный, пристрельный удар, и еще. Точно! Там происходит это.
Столько времени утекло после Хью, но то, как это бывало меж ними, еще свежо в памяти, точно персик, в который вонзаешь зубы. Словно вчера была вся эта телесная радость. Они так рано сошлись, что даже не понимали толком, что вытворяют, но не собирались бросать, а достигнув положенного возраста, поженились. Этот кайф, химия – совсем не худшее, на чем можно построить брак. Первые годы были горячкой, а последние – просто счастьем.
Девица на лестничной площадке застонала. Парень что-то пробормотал, но не так явственно, чтобы Бетт смогла разобрать, а девица стонала все громче, а затем притихла, будто закусила что-то, чтобы не закричать, – может, его плечо? В дверь они долбали усердно. Бетт всем телом прижалась к вздрагивающему деревянному полотну [так давно никто к ней не прикасался; в продуктовом магазине она протягивает мелочь на ладони, чтобы хоть продавец притронулся пальцем к руке]. Вот ведь атлеты! И не хочешь, а вспомнишь воскресную экскурсию в зоопарк и ликующее непотребство обезьян-капуцинов. Раздался придавленный рык, и Бетт прошептала своей кошечке, которая выписывала восьмерки вокруг лодыжек: «Сласть или напасть, старушка. Чистая правда».
С лестничной площадки доносилось хриплое дыхание, шорохи и голоса этих дурачков. О, она знает, кто они: странного вида верзила с нижнего этажа и его долговязая бесцветная жена, – но когда она с ними в холле столкнется, то не станет смущать, не подаст виду. Послышались шаги вниз, музыка стала громче, затем, когда дверь за ними закрылась, тише, и Бетт снова осталась одна. Что ж, теперь стаканчик виски безо всякого льда и давай-ка в постель, голубка, как положено хорошей девочке, ты ведь теперь такая.
Пробило десять, и Матильда на коленях собирала осколки разбитого бокала, миллионного, наверно, по счету за те пять лет, что они живут в этой кошмарной квартире. Целых пять лет, и все под болтовню о наработке деловых связей, формировании репутации и прочем вздоре. Но когда-нибудь Лотто получит роль, и тогда станет полегче. Ох, как же она устала. Даже поленилась сегодня вставить контактные линзы, и стекла ее очков захватаны пальцами. Хотелось, чтобы все уже разошлись по домам.
Она услышала, как Лотто сказал с дивана:
– Это попытка встряхнуть обстановку. По крайней мере, здесь теперь не так ярко, как во рту, набитом лимонными карамельками.
Рэйчел, потрогав недавно перекрашенную стену, пробормотала:
– Но что за цвет? «Самоубийство в сумерках»? «Церковь зимним днем»? Темнее синего я еще не встречала.
Похоже, Рэйчел взвинчена больше обычного; минуту назад на улице жахнул выхлоп автомобиля, и она с перепугу выронила бокал.
– Ну, пожалуйста, давай я уберу, – просила она Матильду. – Раз уж я такая нескладная недотепа.
– Да все уже. И я слышала, что ты сказала про новый окрас. Но знаешь, мне цвет нравится, – отозвалась Матильда, выбрасывая осколки в мусорное ведро, куда капнула и капля крови, – оказывается, она поранила указательный палец, сама того не заметив. – Ччерт, – прошипела она.
– И мне нравится, – сказала Луанна. За прошедший год она раздалась, как тесто перед вторым замесом. – Я имею в виду, что как фон для украденной картины это годится.
– Перестань, – сказала Матильда. – Питни картину разбил, Ариэль велел мне ее выбросить. И я выбросила. И если я потом ее из мусорки забрала, то все честно.
Луанна с натянутой улыбкой пожала плечами.
– При всем моем уважении, – вступил Чолли, – это худшая вечеринка во всей истории вечеринок. Мы говорим о стенах. Сюзанна и Натали лижутся, а Даника спит на ковре. И с чего ты затеял устроить нам дегустацию? Кто из нас, не доживших до тридцати, что-нибудь смыслит в винах? Даже в старших классах выпадали вечеринки получше.
Лотто улыбнулся, и комната осветилась, как при первых лучах солнца. Все оживились.
– Да, мы правда тогда бесились вовсю! – Лотто повернулся к остальным и продолжил: – Я успел пожить в Кресчент-Бич всего несколько месяцев, а потом Чолли меня развратил, и мама отправила меня в частную школу. Но то время было лучше всего. Гудели почти каждую ночь. Даже сказать не могу, сколько наркоты мы употребили. И, Чолл, помнишь ту тусню в заброшенном доме на болоте? Я трахал девчонку на крыше, когда понял, что дом горит, второпях скатился с нее и спрыгнул со второго этажа в кусты, а когда выполз из них, у меня член торчал из ширинки. Пожарные наградили меня аплодисментами.
Все рассмеялись, а Лотто сказал:
– Это была моя последняя ночь во Флориде. Назавтра мама отослала меня из дому. Посулила школе огромный взнос, нарушив все правила приема. И с тех пор я дома ни разу не был.
Чолли издал сдавленный звук. Все перевели глаза на него.
– Моя сестра-близняшка, – сказал он. – Это была она. Это ты с ней трахался.
– Черт меня побери, – сказал Лотто. – Мне так жаль, Чолли. Прости! Я болван.
Чолли вдохнул глубоко, а затем выдохнул.
– Это было в ту ночь, когда мы валяли на пляже дурака, перед тусней, и я сломал ногу. Спиральный перелом. Я был в операционной, когда у вас загорелось.
Долгое молчание.
– Чувствую себя идиотом, – сказал Лотто.
– Да ладно, – махнул Чолли. – К тому времени она переспала уже со всей футбольной командой.
Девушка, с которой Чолли пришел, издала удивленный звук. Это была худенькая манекенщица из какой-то страны, входившей в СССР, и ее красота, вынужден был признать Лотто, затмевала даже Матильду. [В те дни это было нетрудно.]
Лотто посмотрел на жену. Та стояла на кухне, усталая, с немытыми волосами, в очках и толстовке. Не следовало ему настаивать на этом сборище. Но он сделал это ради нее, он беспокоился; она уже несколько недель какая-то тихая, вялая и пришибленная. Что-то не так. И ничто не проканывало, ни одна из его шуток.
– Ты это из-за работы? – спрашивал он ее. – Слушай, если тебе там плохо, давай ты уволишься, и мы заведем детей.
Если он подарит Антуанетте внука, мать наверняка смилостивится. Тогда у них будет полно денег, достаточно, чтобы Матильда смогла отмякнуть и разобраться с собой, чем она хочет заниматься на самом деле. А так она казалась ему художником, который не сумел отыскать свой почерк, пробует то и это, но никак не может напасть на средство себя выразить. Возможно, она найдет это в детях. Но нет.
– Господи, Лотто, перестать же болтать, прекрати эту говорильню, и особенно про детей, – шипела она.
И правда, они еще слишком молоды, и друзья их не расплодились еще, по крайней мере намеренно, и он отложил этот разговор на потом и отвлек ее, предложив посмотреть по видео фильм и выпить.
Теплилась мысль, что вечеринка с дегустацией вин взбодрит и поднимет дух, но теперь ясно, что все, чего ей хочется, – это залечь на новый матрас в спальне, где вышитые занавески и старые гравюры птичьих гнезд, и зарыться лицом в подушку. Он навязал ей сегодняшний вечер.
Ему стало еще страшней. Что, если она собирается с силами уйти от него? Что, если ее мрачный настрой не из-за нее, а из-за него? Он знал, что разочаровал ее; что, если она думает, что без него добилась бы большего? Он раскрыл объятия ей навстречу, скорее даже, чтобы утешиться самому, но она подошла с бумажным полотенцем лишь для того, чтобы он замотал ей кровящий палец.
– Ну, не знаю. По-моему, отличная вечеринка, – сказала Рэйчел.
Преданная Рэйчел с острым личиком и голодным выражением глаз. Она вырвалась в город на выходные из своей приготовительной школы. Ей только четырнадцать, но вид у нее усталый и, Лотто заметил, ногти обкусаны до мяса. Не забыть бы спросить у Салли, не происходит ли с ней такого, о чем ему следует знать.
– Тут есть чему поучиться, и уж точно лучше, чем на пятничном девичнике с ночевкой в общаге.
– Да уж, девичник, представляю себе! – сказал Лотто. – Мятный шнапс. «Клуб „Завтрак“» по видаку. Кто-то всю ночь ревет в ванной. В полночь бега́ голышом через школьный двор. Любимая девчачья игра в бутылочку. Моя Рэйчел в пижамке с лобстерами читает в уголке книжку, оценивающе поглядывая на всех, как мини-королева. Рецензия в ее журнале будет разгромной.
– Да, – кивнула Рэйчел. – Обманутые надежды, банально и пресно. Два пальца вниз.
Все рассмеялись, и концентрация безнадеги в воздухе разредилась. Эта способность облагораживать обстановку – эффект Рэйчел. Дар, не сразу бросающийся в глаза, но достойный.
Наступившую тишину прервала Луанна:
– И все-таки, Матильда, скажу, что профессиональная этика должна была помешать тебе взять холст.
– Черт возьми, – не выдержала Матильда. – И что, было бы правильно, если бы кто-то другой вынул его из помойки? Ты, например? В чем дело, Луанна? Ты что, завидуешь?
Луанна поморщилась. Конечно, завидует, подумал Лотто. Наверно, Луанне нелегко приходилось, когда Матильда работала в галерее. После Ариэля Матильда всегда была первой. Знающая, умная, любезная. И конечно, Ариэль любил Матильду. Все любят Матильду.
– Ха, – сказала Луанна. – Забавно. Тебе, что ли?
– Сделай одолжение, прекрати, – сказал Чолли. – Если бы это был Пикассо, все бы хвалили Матильду за ее художественное чутье. Не будь сучкой, Луанна.
– Ты назвал меня сучкой? Ты? Да кто ты такой?
– Мы встречались уже миллион раз, и ты каждый раз это спрашиваешь, – сказал Чолли.
Даника наблюдала за перебранкой так, словно это игра в пинг-понг. Она еще сильней похудела; руки и щеки ее покрылись странным пушком. Она смеялась.
– Не ссорьтесь, пожалуйста, – тихо сказала Рэйчел.
– Никак не пойму, зачем вообще прихожу на эти ваши дурацкие сборища, – сказала Луанна, вставая. От злости у нее полились слезы. – Ведь ты абсолютная фальшивка, Матильда, и ты знаешь, о чем я говорю. – Потом она повернулась к Лотто и брызнула в него ядом: – А вот ты не фальшивка, Лотто, ты просто долбаный Бэмби. Все уже давным-давно поняли, что для сцены у тебя маловато таланта. Но никто не смеет тебе это сказать, боятся обидеть. И больше всех боится твоя жена, которая из кожи вон лезет, чтобы ты, младенчик, остался в неведении.
Лотто вскочил со стула так быстро, что кровь отхлынула от лица.
– Заткни свою свинячью пасть, Луанна. Лучше моей жены на свете никого нет, и ты сама это знаешь!
Рэйчел сказала: «Лотто!», и Матильда тихо сказала: «Лотто, остановись», а Натали и Сюзанна сказали: «Эй!» Только Чолли разразился пронзительным смехом. Ольга, о которой они все забыли, развернулась и ткнула его кулаком в плечо, а потом встала и, простучав по полу своими высокими каблуками, распахнула дверь квартиры. Крикнула: «Вы чудовища!» – и выбежала на улицу. Холодный ветер, прорвавшись вниз по ступенькам от входной двери, окатил их снежинками.
Длительное мгновение ничего не происходило. Затем Матильда сказала:
– Пойди за ней, Чолли.
– Не-а, – сказал он. – Без шубы она далеко не уйдет.
– На улице минус десять, кретин, – сказала Даника и швырнула Ольгину синтетическую шубку в физиономию Чолли; ворча, он встал и вышел, хлопнув и той, и другой дверью.
Матильда поднялась с места, сняла со стены картину, висевшую над сияющей башкой латунного Будды, и протянула ее Луанне.
Луанна картину машинально взяла и на нее посмотрела.
– Нет, – сказала она. – Я это принять не могу.
Всем, кто был в комнате, почудилось, что в тишине идет жестокая битва.
Матильда села, скрестив на груди руки, и закрыла глаза.
Луанна положила картину на колени Матильде, вышла, дверь за ней закрылась, и навсегда. Без нее стало как будто светлей, даже верхний свет сделался не таким резким.
Друзья ушли один за другим. Рэйчел заперлась в ванной, там полилась вода.
Они остались вдвоем. Матильда опустилась перед Лотто на колени, стянула с себя очки и уткнулась лицом ему в грудь. Он сокрушенно обнял ее, что-то ласково бормоча. Ссоры вызывали у него тошноту. Он их не выносил. Худые плечи жены тряслись. Но когда она подняла голову, он поразился: лицо у нее было горячее и опухшее, но она смеялась. Смеялась?! Лотто расцеловал лиловые штампики у нее под глазами, веснушки по бледной коже. У него голова пошла кругом от восхищения.
– Ты сказал, у Луанны свинячья пасть, – хохотала она. – Это ты-то, мистер Само Добродушие. Тот, кто всегда спешит сгладить конфликт. Ха!
Чудо, а не человек.
Его залило теплом, и он понял, что она преодолеет и этот этап испытаний, столь тяжкий, что ей трудно разделить его с ним. Она здесь. Она не уйдет. Она снова полюбит его. И отныне в каждом доме, где им предстоит жить, эта картина будет окрашивать воздух синью. Она – свидетельство.
Супружество поднялось с пола, потянулось, размялось и оглядело их, уперев руки в бока. Матильда возвращается к Лотто. Аллилуйя.
– Аллилуйя, – сказал Чолли, опрокидывая в себя яичный коктейль, в основном из бренди. Было одиннадцать вечера. – Христос родился!
Они с Лотто молчком соревновались, кто напьется сильней. Лотто лучше скрывал хмель, казался нормальным, но комната ходуном ходила, если расфокусировать взгляд.
Снаружи густая темь. Уличные фонари как леденцы из яркого снега.
Тетя Салли токовала, не умолкая, часами, и сейчас тоже.
– Конечно, я ничего не понимаю ни в чем, не рафинирована, как вы все, бакалавры с дипломами и художники, и конечно, не мне подсказывать тебе, что делать, Лотто, мой мальчик, но если бы это была я, а это не так, я знаю, но если бы было так, то я бы сказала, на твоем месте, что я сделала все, что смогла, и гордилась бы теми тремя-четырьмя спектаклями, в которых сыграла в последние годы, ведь, скажем так, не каждому дано стать Ричардом Бертоном, и, может, я кое-что еще сделаю в своей жизни. Например, приму на себя контроль за трастовым фондом или что-то еще. Верну расположение Антуанетты. Получу доступ к наследству. Ты же знаешь, как плохо она себя чувствует, у нее никудышное сердце. Рэйчел и ты, вы оба много получите, когда она умрет, – и дай бог, чтобы это случилось не скоро.
Она хитро покосилась на Лотто поверх своего носика-клювика, совсем как у канарейки. Будда тихо посмеивался с каминной полки. Вокруг него буйно цвела в горшках пуансеттия, «рождественская звезда». Под ним в камине горел огонь, который Лотто осмелился развести из веток, собранных в парке. Позже в трубе взвоет ветер, как мчащийся товарняк, там загорится сажа, и ночью прибудут пожарные.
– У меня не лучшие времена, – сказал Лотто, – Это так. Но, послушай, я родился богатым белым мужчиной. Мне нечего было желать. И нечего будет вложить в роль, если не накопить опыта неудач. Зато я занимаюсь тем, что люблю. Это не так мало.
Прозвучало неискренне даже для него самого. Плохо сыграно, Лотто. [Но актерство уже выскальзывало из рук, не так ли?] Сердце больше не рвется в бой.
– И все-таки, что такое успех? – спросила Рэйчел. – Я бы сказала, что это возможность работать столько, сколько ты хочешь, над тем, что тебя вдохновляет. У Лотто все эти годы стабильно была работа.
– Ты моя дорогая, – сказал Лотто сестре.
Уже старшеклассница, она была так же тоща, как Салли. Вообще пошла в Саттеруайтов, смуглявая, волосатая, не на что посмотреть; друзья не могли поверить, что они с Лотто родня. Один Лотто считал ее изумительной, изысканно плоскостной. Ее худое лицо напоминало ему скульптуры Джакометти. Улыбаться она совсем перестала. Он притянул ее к себе, поцеловал и почувствовал, что внутренне она сжата в комок.
– Успех – это деньги, – сказал Чолли. – Так-то вот.
– Тихо, дети! – сказала Салли, – Успех – это сознание своего величия. Ты, Лотто, с этим и родился. Я поняла это в тот момент, когда ты с криком выскочил из Антуанетты. В разгар урагана. Ты просто не осознаешь своего величия. Гавейн вечно твердил, что ты станешь президентом США или астронавтом. Кем-то большим, чем просто большой. У тебя это в звездах.
– Прости, что разочаровал, – сказал Лотто. – И тебя, и мои звезды.
– Ну, еще ты разочаровал нашего покойного папеньку, – рассмеялась Рэйчел.
– За нашего разочарованного покойного отца, – сказал Лотто.
Он поднял бокал, глядя на сестру, и подавил горечь. Она не виновата, она не знала Гавейна и не может знать, какую боль причинила.
В дверях появилась Матильда с подносом в руках. Великолепная, в серебристом платье, с платиновыми волосами в стиле Хичкока: она стала модницей после того, как полгода назад ее повысили в должности. Лотто захотелось отвести ее в спальню и хорошенько там потрудиться на ниве борьбы с душевным опустошением.
– Спаси меня, – одними губами произнес он, но жена на него не смотрела.
– Что-то мне неспокойно. – Матильда поставила поднос на кухонную стойку и повернулась к ним. – Я оставила это под дверью для Бетт сегодня утром. Уже одиннадцать, а она так и не вышла. Кто-нибудь видел ее последние несколько дней?
Тишина, только тиканье фамильных часов, которые Салли как ручную кладь провезла в дорожной сумке. Все подняли глаза к потолку, будто стремясь пронзить взглядом слои штукатурки, паркетной доски и ковра, заглянуть в холодную темную квартиру. [Там тишина, только холодильник гудит, большая остылая груда на кровати, и дышит одна лишь голодная полосатая кошка, дышит и трется об оконную раму.]
– Сегодня же Рождество, – сказал Лотто. – Она, наверное, вчера уехала к какой-нибудь родственнице и забыла нам сообщить. На Рождество никто не бывает один.
– Мувва, – сказала Рэйчел. – Мувва одна в своем сыром пляжном доме, наблюдает в бинокль за китами.
– Чушь собачья, – отозвалась Салли. – У твоей матери был выбор, и она предпочла свою агорафобию празднованию Рождества Христова со своими детьми. Это болезнь, поверьте мне, я знаю, это болезнь. Я живу с ней уже черт знает сколько лет. Ума не приложу, зачем я каждый год покупаю ей билет. В этот раз она даже вроде бы собралась. Надела жакет, надушилась. А потом просто плюхнулась на диван и сказала, что лучше займется тем, что расставит коробки с фотографиями в свободной ванной, наведет там порядок. Она сама сделала свой выбор, она взрослая женщина. Нам не в чем себя винить, – подвела черту тетя Салли, но поджатые ее губы противоречили сказанному.
Лотто стало чуток полегче. Значит, то, что она прицепилась к нему сегодня, шпыняла и поучала, вызвано тем, что она чувствует за собой вину.
– Я себя не виню, – сказала Рэйчел, но и у нее личико было поникшее.
– А я виню, – вздохнул Лотто. – Я так давно маму не видел. Мне ужасно не по себе.
Чолли издал саркастический вздох. Салли сердито на него посмотрела.
– Ну, это не значит, что вы, дети, не можете ее навестить, – сказала она. – Я знаю, она вас отсекла, но стоит вам провести с ней пять минут, как она снова вас обоих полюбит. Это я могу обещать. И могу это устроить.
Лотто открыл было рот, но уж слишком много пришлось бы сказать неприятного, что было не по-рождественски по отношению к матери, так что он закрыл рот и оставил свою речь при себе.
– Послушайте, – сказала Матильда, пристукнув о стол бутылкой красного вина. – Антуанетта никогда не бывала в этой квартире. Она никогда не встречалась со мной. Она выбрала злиться и не намерена перестать. Мы не можем страдать от ответственности за ее выбор.
Заметив, что у нее дрожат руки, Лотто понял, что она в гневе. Он очень ценил те редкие моменты, когда она показывала, как тонок слой ее внешней невозмутимости, как под ним все кипит. Лотто, правду сказать, беспутной частью себя не прочь был бы запереть жену с матерью в одной комнате, пусть сами со всем разберутся, повыдергают проблемы. Впрочем, нет, ему жаль Матильду, она слишком милая, и, если проведет в обществе матери хотя бы минуту, увечий ей не избегнуть.
Между тем милая Матильда выключила верхний свет, так что комнатой завладела рождественская елка, вся в гирляндах и стеклянных сосульках, и Лотто усадил жену к себе на колени.
– Дыши, – тихо прошептал он ей в волосы.
Рэйчел зажмурилась, так елка сверкала.
Лотто знал, что Салли выдала горькую правду. За прошедший год стало ясно, что он больше не может рассчитывать на свое обаяние, оно износилось, поблекло. Лотто проверял его снова и снова: в кофейнях, на кастингах и на людях, которые читают в метро, – но если и получал поблажки, то лишь те, что предоставляются всякому и любому в меру симпатичному молодому мужчине, так что с обаянием дело было швах. В последнее время тот, к кому он обратился, мог запросто отвернуться, и все. А ведь он привык, что у него это по щелчку, щелкнул, и засияло. Но он утратил этот дар, свой шарм, свою неотразимость, свое сияние. Улетучились в прошлое легкость в словах, остроумие и находчивость. Не припомнить ночи, когда он заснул бы трезвым.
И тогда Лотто взял и запел. «Колокольцы», рождественскую песенку, которую ненавидел, да и тенорок его оставлял желать лучшего. Но что еще оставалось, кроме как петь, перед лицом отчаяния, после того как он с горечью представил себе растолстевшую мать, одиноко сидящую под величавой пальмой в горшке, увешанной разноцветными огоньками? Песенку подхватили и остальные, это было чудесно, все, кроме Матильды, еще не остывшей от гнева, хотя понемногу и она смягчилась, улыбнулась, а под конец даже запела.
Салли смотрела на Лотто, смотрела и не могла наглядеться. Ее мальчик. Свет ее очей. Зрение у нее было ясное, и она знала, что Рэйчел, благородная, добрая и скромная Рэйчел, заслуживает любви больше, чем Лотто. Но по утрам Салли просыпалась все-таки с молитвой о Лотто. Годы разлуки дались ей тяжело.
[… колоколь-колоколь-колокольцев звон!]
Ей вспомнилось то Рождество, когда он еще не закончил колледж, еще до Матильды, и Салли с Рэйчел приехали к нему в Бостон, где он снял номера в почтенном старом отеле, и снегу навалило фута на три, так что они застряли там, как во сне. За ужином Лотто умудрился уговориться о свидании с девушкой, которая сидела за другим столиком, и манерой держаться до того напоминал свою мать, когда та была молода и очаровательна, что у Салли перехватило дыхание. На тот миг Антуанетта совместилась со своим сыном. Позже Салли до полуночи выжидала в засаде, стоя у ромбовидного окна в том конце коридора, где находились их комнаты, а за ее спиной шел и шел снег, засыпая лужайку.
[… наших санок по полям радостный разгон… ]
На другом конце коридора, уменьшенные, три горничные со своими тележками смеялись, шикая друг на друга. Наконец дверь номера ее мальчика отворилась, и он вышел в одних шортах для бега. Какая красивая у него длинная спина, как у его матери, то есть, конечно, когда та была худой. На шею наброшено полотенце: он направлялся в бассейн. Грех, который он намерился совершить, был так отчаянно очевиден, что Салли порозовела, представив попку его подружки в отпечатках от кафеля и как Лотто утром увидит свои ободранные колени. Где это мальчик научился такой уверенности в себе, гадала она, в то время как он, уменьшаясь в размере, удалялся по направлению к горничным. Он что-то сказал им, и все три зазвенели смехом, и одна легонько стукнула его тряпкой, а другая брызнула блестками, шоколадными, ему в грудь.
[… но задорный смех душу веселит, ха-ха-ха!]
Он поймал их. Его смех докатился до Салли. «Каким он обыкновенным становится, – подумала она. – Банальным. Как все. Если не остережется, какая-нибудь милашка прилепится, и тогда Лотто женится, найдет себе неинтересную, но прибыльную работу, обрастет семьей, рождественскими открытками, пляжным домиком, жировыми отложениями, внуками, излишком денег, скукой и смертью. В старости, праведныйретроград, он и думать забудет о том, что было ему дано». Стерев слезы, Салли обнаружила, что осталась одна, ей дуло в шею сквозняком из окна, а по обе стороны коридора тянулись ряды дверей, в дальнем конце сливаясь в ничто.
[… сани мчатся с ветерком, песенка звенит, о!]
Но, вот радость, возникла Матильда; и хотя на первый взгляд она казалась той самой милой девушкой, которой Салли побаивалась, это было не так. Салли распознала в ней твердость духа. Матильда, надеялась Салли, сможет защитить Лотто от его лени, и что? Годы прошли, а он все еще рядовой, все еще ничего не добился. Припев застрял у нее в горле.
В окно комнаты мельком заглянул незнакомец, поспешающий изо всех сил по обледенелому тротуару. Он увидел кружок поющих людей в чистом свете, исходящем от елки, и его сердце дрогнуло, и этот образ остался с ним навсегда; не развеялся, даже когда он пришел домой к своим детям, которые уже спали в кроватках, к жене, которая сердилась, пытаясь собрать трехколесный велосипед без отвертки, одолжить которую он и бегал к соседям. Этот образ прирос к нему, не развеявшись и после того, как его дети развернули свои подарки и разбросали игрушки меж обрывков бумаги, переросли их и покинули дом, родителей и свое детство, так что он и его жена только ахнули, не в силах понять, как же это случилось так ужасающе быстро. И за все эти годы видение людей, поющих в мягком свете полуподвальной квартиры, выкристаллизовалось в его сознании как представление о том, какое оно, счастье.
Почти полночь, а Рэйчел никак не уймется по поводу потолка. Какая дерзость со стороны Матильды, позолотить его! Их тела повторялись в нем эхом, глобулы, плавающие по яркости наверху. В самом деле, золотой потолок элегантно преобразил комнату, сияя над темными стенами. Будто чья-то рука в морозный последний день года откинула крышу, как крышку банки с сардинками, и вот они все стоят и сидят под августовским солнцем.
Даже не верится, что это то самое пустое белое пространство, в которое Рэйчел вошла в день новоселья больше семи лет назад, в безумное скопление тел и пивной дух, в восхитительно потную жару с видом из окон на сад, щедро залитый сиянием раннего лета. Теперь в свете уличных фонарей поблескивают сосульки. Вокруг Будды – заросли орхидей, по углам – разросшиеся денежные деревья, стулья в стиле Людовика XIV обиты экспортной мешковиной из-под французской муки. Элегантно, слишком пышно, слишком красиво. «Позолоченная клетка», – подумала Рэйчел. Матильда весь вечер с Лотто резка. Не улыбается больше, когда на него смотрит. Ну, почти и не смотрит совсем. Рэйчел боялась, что Матильда, которую она любила больше всех на свете, вот-вот улетит отсюда, хлопая крыльями. Бедный Лотто. Бедные они все, если Матильда его бросит.
Новая подружка Рэйчел, Элизабет, такая светловолосая и светлокожая, что казалась сделанной из бумаги, почувствовала, как напряглась Рэйчел, и стиснула ей плечо. Рэйчел расслабилась, вздохнула прерывисто и робко поцеловала Элизабет в шею.
Снаружи по тротуару промелькнуло кошачье тело. Это не могла быть та полосатая, что принадлежала соседке с верхнего этажа. Та кошка была старой, еще когда Лотто с Матильдой сюда въехали; на прошлое Рождество ей выпало голодать три дня, пока Лотто с Матильдой не связались с домовладельцем, отдыхавшим на Виргинских островах, и не попросили прислать кого-нибудь разобраться. Бедная, подгнившая Бетт. Лотто пришлось на неделю отвезти бьющуюся в истерике Матильду к Сэмюэлу, переждать, пока работали фумигаторы. Странно было видеть, как вечно невозмутимая Матильда теряет самообладание; но благодаря этому Рэйчел прозрела в ней худенькую большеглазую девочку, какой та, должно быть, была, и полюбила Матильду еще сильней. Теперь наверху обитала пара с новорожденным младенцем, вот почему эта встреча Нового года так малолюдна. Выяснилось, что новорожденные шума не одобряют.
– Чадолюбцы, – съязвила взявшаяся ниоткуда Матильда, Матильда, умевшая читать мысли.
Она рассмеялась, увидев, как изумилась Рэйчел, а затем вернулась на кухню разлить шампанское по бокалам, уже расставленным на серебряном подносе.
Лотто подумал о ребенке наверху, потом о том, какой Матильда будет беременной: стройная, как девочка, со спины, а сбоку такая, словно целиком проглотила тыкву. От этой мысли он рассмеялся. Бретелька спущена, грудь торчком наружу, полная даже для его голодного рта. Чтобы отсчет дней исходил от чистой, теплой кожи и молока – вот чего хотелось ему, именно этого.
Чолли, Даника, Сюзанна и Сэмюэл сидели притихшие, бледные и все такие серьезные. Они пришли сегодня поодиночке, без пар, этот год считался неудачным для расставаний. Сэмюэл похудел, кожа вокруг рта шелушилась. Он впервые вышел из дому после операции по поводу рака яичек и как никогда казался каким-то съежившимся.
– Кстати, о чадолюбцах. На прошлой неделе я столкнулась с девицей, с которой ты, Лотто, мутил в колледже. Как же ее звали? А, да, Бриджет, – сказала Сюзанна. – Она детский онколог. Крайне беременна. Распухла, как клещ. Выглядит очень счастливой.
– Да ни с кем я в колледже не мутил, – отмахнулся Лотто. – Только с Матильдой. И то всего две недели. А потом мы поженились.
– Не мутил, как же. Просто перетрахал всех дев в долине Гудзона. – Сэмюэл рассмеялся. После химиотерапии он враз облысел и без кудряшек стал похож на хорька. – Прости, Рэйчел, но твой брат был блудник.
– Да-да, я об этом слыхала, – сказала Рэйчел. – Эта Бриджет, кажется, бывала на ваших вечеринках, когда вы сюда переехали. Ужасно была нудная. Ведь в этой комнате толклось тогда с миллион человек. Я скучаю по тем временам.
Всплыли призраки былых вечеринок, призраки их самих, молодых и слишком беспечных, чтобы осознавать, до чего чудесные были то времена.
«Что же сталось со всеми нашими друзьями?» – задумался вдруг Лотто. Те, кто казался таким важным, как-то слинял. У самых-пресамых ботанов – близнецы в колясках, квартира в дорогом районе Парк-Слоуп, крафтовое пиво. Эрни, властитель сети баров, по-прежнему кадрит девок с сережками размером в тарелку и с татушками, как у шпаны. Натали теперь финансовый директор какого-то интернет-стартапа в Сан-Франциско. Сотня других неизвестно где. Друзья сошли на нет. Те, кто остался, – сердцевина и костный мозг.