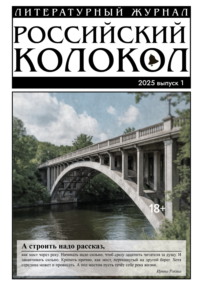Читать книгу: «Российский колокол № 1 (50) 2025», страница 2
От их дома номер 13 было рукой подать до набережной Волги. С родителями они катались на прогулочном пароходике по реке, на велосипедах – по парку Карла Маркса. Летом стояла неимоверная жара, от которой спасали растущие кругом развесистые клёны, дававшие тень, да ещё множество спасительных фонтанов, установленных по всему городу. В эту жару они много купались в Волге и потом, накупавшись вдоволь, грелись с Варей на тёплом песке пляжа. Для всей городской детворы это было особое, любимое место. По длинным деревянным сходням люди шли на переправу. До набережной они ходили с Варей через шумный сталинградский базар. Иван закрыл глаза, представились ряды с яблоками, мешки с воблой, корзины с огурцами, возы с арбузами, дынями. Ему сразу показалось, что он ощущает тот особый, родной сталинградский запах. Запах речной рыбы, рогожи и свежей волжской воды.
От их дома недалеко было до их любимой с Варюшей площади Павших Борцов революции с её просторными аллейками вдоль нарядных и ароматных клумб, скамейками, где всегда легко можно было найти свободное место, присесть и насладиться немного подтаявшим мороженым. И где по праздникам очень весело и хитро на всю эту площадь посматривал товарищ Сталин с огромного круглого плаката, растянутого на полстены дома на углу. От их дома было совсем недалеко до иногда подсыхающего летом русла тихой речки Царицы, в честь которой когда-то первоначально и был назван город – Царицын. Бегать туда Ваня любил, чуть забирая вправо, через уютную Октябрьскую площадь, с её неизменным трамвайным перезвоном, обгоняя по пути прогуливающиеся под руку парочки.
На одном из заброшенных пустырей вдоль берега Царицы произошла с ним история. Случилась она в кажущиеся неимоверно далёкими школьные годы.
«Не история, – думалось ему, – а испытание».
Из всех, выпавших ему потом, одно из первых. Испытание, которое Иван тогда не смог пройти.
Относиться к событиям в своей жизни как к испытаниям, которые надо пройти и выдержать, его приучил отец.
Спокойный и серьёзный, Сергей Михайлович, разговаривая с сыном, с малых его лет старался тому объяснить, каким должен быть человек.
– …Если он, этот человек, претендует на то, чтобы считать себя настоящим человеком, – часто добавлял отец.
Он рассказывал Ивану о том, что жизнь часто ежедневно испытывает тебя, подталкивая порой совершать неправильные поступки. И важно уметь постоянно, в любой ситуации выдерживать такие испытания, чтобы оставаться человеком.
Его отец не терпел вранья. Ещё Иван часто слышал от него, что никогда нельзя предавать своих друзей. Отец, не боясь затереть эти избитые истины и превратить их в ничего не значащие слова, старался донести их до сына.
Многое из того, что говорил ему отец, Иван начал понимать, лишь когда сам прошёл через многое.
Родители Ивана были инженерами. Вечерами в небольшой, но отдельной квартире Волгиных часто собирались друзья. Сидели допоздна. Бывало, что выпивали немного, но зато много шутили, смеялись, иногда громко спорили о чём-то, но всегда пели, и это были красивые песни.
Ваня с сестрёнкой Варей слушали их разговоры, подхватывали слова песен, ставших за столько вечеров знакомыми, хоть порой и малопонятными для них. Им нравились такие посиделки дома, когда они ждали гостей, когда стремительная, разрумянившаяся мама весело металась по кухне, накрывая на стол. Когда заметно оживлялся в основном серьёзный папа и начинал очень смешно шутить, когда гости постепенно собирались на их кухне.
Ваня смущался и молчал в присутствии гостей, а Варя, несмотря на то что была гораздо младше брата, вела себя очень смело. Она начинала засыпать вопросами и рассказами каждого приходящего к ним в гости так, что родителям приходилось порой оттаскивать её от них, шутливо приказывая отправиться в их с Ваней комнату.
Маленькая Варя никогда не терялась. По любому поводу у неё находилось своё собственное мнение. И не было для неё такого вопроса, на который она ответила бы «не знаю». Ваня всегда утверждал в таких случаях, что Варя просто не знает такого ответа – «не знаю». Удивительно, но он быстро научился извлекать пользу из этого упрямства младшей сестры. Когда она была ещё слишком маленькой, чтобы долго вечерами гулять одной, с ней гулял Ваня. И ему часто приходилось прибегать к одной хитрости, чтобы убедить отчаянно упирающуюся Варю, что пора уходить с детской площадки домой.
Сначала он говорил ей:
– Варя, нам с тобой срочно по важному делу надо идти домой, уже поздно.
Часто это не срабатывало. И Варя, готовясь громко разреветься, категорично заявляла ему:
– Нет! Я ещё долго буду здесь играть. Не пойду домой!
Тогда Ваня, напуская на себя немного загадочный вид, сообщал ей:
– Но надо обязательно идти, Варя. Ведь – аккумулятор!
Иногда вместо «аккумулятора» Ваня вставлял слово «квартал» или ещё какое-нибудь непременно сложное, непонятное Варе слово. И это слово действовало на Варю магически.
Не желая признаваться в том, что она не знает значения этого «умного и сложного» слова, Варя сразу становилась серьёзной. Затем она начинала прощаться со своими подружками в песочнице. Всем своим важным видом она показывала, что «раз уж тут замешан сам “аккумулятор”, то ничего не поделаешь: у неё появилось важное дело, и ей надо срочно отправляться вслед за Ваней домой».
От этого происходили смешные случаи. Иван улыбнулся, вспомнив, как однажды друг отца, дядя Витя, посмеиваясь над Вариным «всезнайством», спросил её:
– Варя, ты ведь всё знаешь?
– Да! Конечно, всё, – ничуть не смутившись, ответила Варя.
– А вот кто такой был, например, гладиатор Спартак? Знаешь?
– Да!
– И кто же?
Варя, подумав всего пару секунд, выпалила удивлённому и оторопевшему от её ответа дяде Вите:
– Он очень много сделал для советских людей!
– Да, тут ты права, трудно спорить, – со смехом отозвался папин друг.
Дядя Витя Семёнов был душою папиной с мамой компании. Шумный, остроумный, любящий розыгрыши, он нравился всем, а особенно детям. Его громкий смех и сильный голос перекрывали другие голоса. Как-то в один из вечеров он объявил, что сегодня он впервые сядет на шпагат. Он готов был поспорить с любым, что это у него выйдет легко и просто, без всякой подготовки.
Это всем показалось невероятным. Да и массивная фигура дяди Вити вызывала сомнения, что это вряд ли у него получится. Но когда все сомневающиеся заключили с ним пари и потребовали, чтобы дядя Витя незамедлительно исполнил обещанное, тот, нисколько не смутившись, вышел на середину комнаты и зычным своим голосом пророкотал, обращаясь к Ивану:
– Ванька! Неси шпагат!
Засмеявшись, Ваня принёс из кладовой моток верёвки, бросил её на пол, а дядя Витя, под общий смех и аплодисменты, торжественно уселся на неё.
– Вот я и сел на шпагат! – торжественно объявил он собравшимся.
Ваня хохотал тогда громче всех.
Но, несмотря на то что он очень любил дядю Витю, была одна вещь, которая ему в нём не нравилась. Это вечно ускользающие от собеседника глаза дяди Вити. Иван с детства привык заглядывать людям, с которыми он встречался или разговаривал, глубоко в глаза. Ему всегда представлялось, что там, в самой глубине глаз, у каждого человека есть что-то такое, что человек старается спрятать от других о себе. Он знал, что, прочитав и разгадав это, можно многое понять о человеке. В детстве Иван и в свои глаза пытался заглянуть поглубже, подолгу смотрясь в зеркало. У дяди Вити из глубины глаз проглядывало что-то жёсткое и колючее, что пугало Ваню тем, как сильно оно не совпадало с весёлым дядивитиным смехом.
Иван с сожалением вспомнил, как перестали у них дома собираться эти шумные компании.
В один из последних вечеров на кухне собрались все, кто обычно бывал. Не было только почему-то давнего папиного друга, дяди Серёжи. В тот вечер говорили тихо, не пели и не веселились. Из кухни еле слышно доносились приглушённо-напряжённые голоса. Но Ваня услышал, что разговаривали о дяде Серёже. В какой-то момент отец начал что-то резко высказывать дяде Вите. Всегда шумный и задорный, тот что-то тихо и невнятно ему отвечал. Внезапно отец отчётливо и сильно произнёс:
– Подлец!
Дети, слыша обрывки разговора у себя в комнате, вздрогнули. Варя испуганно зашмыгала носом. Задвигались стулья, в притихшей квартире застучали шаги. Гости начали расходиться. Первым, хлопнув дверью, ушёл дядя Витя. За ним, смущённо прощаясь, ушли остальные.
Отец ещё долго сидел с мамой на кухне, и Ваня слышал, как он горячо объяснял ей, что «Сергей никак не мог быть врагом, что он давно его знает. Они вместе через многое прошли, не мог он всё это время притворяться честным человеком и вредить Родине, что это ошибка и всё обязательно выяснится». Мама испуганным голосом просила его говорить потише. А отец, всё повышая голос, говорил: то, что сделал Семёнов, – подлость, что нельзя так поступать с друзьями, что он никогда бы не подписал то, что подписал Виктор и не выступил бы так, как он, на общем собрании.
Так они долго разговаривали. Иван с Варей легли спать, пошла спать и мама. Проснувшись ночью от жажды, Иван прошлёпал босыми ногами на кухню, чтобы напиться. Он увидел там при слабом свете настольной лампы под зелёным абажуром отца, который всё ещё сидел за столом и, замерев, смотрел в одну точку.
– Пап, ты чего не спишь? – спросил Ваня.
– Ложись спать, сынок. Чего ты встал? – вздрогнул отец.
Он притянул сына к себе, прижал и, как когда-то в детстве, поцеловал сверху вниз в макушку. Иван заметил, что глаза у отца немного красные, и испугался за него.
А отец, крепко его обнимая, горячо прошептал:
– Никогда… никогда, сын, не предавай своих друзей.
– Да я никогда, пап… – смутившись, пролепетал тогда Ваня.
Всё это промелькнуло единым мгновением перед Иваном. А прихотливая ниточка памяти, тянувшаяся откуда-то из глубины через дебри прошедших событий, снова привела его к тому царицынскому пустырю.
5
Тот пустырь на полувысохшем русле речки Царицы они с одноклассником, другом Сашкой, как раз и решили тогда облазить. Была блаженная пора школьных каникул. Самое их начало. В воздухе вкусно пахло всеми запахами лета. Казалось, что впереди вагоны и вагоны, просто бесконечные составы свободного времени и насыщенных вольготных дней. Без учёбы, без школы, зато с пляжем, Волгой и прочими радостями.
Они с Сашкой слонялись по городу, предоставленные самим себе. И как всегда, богатый на выдумки Санёк убедил Ивана, что там, на этом пустыре, можно найти старинные монеты, ещё царской чеканки. Эта идея захватила их. Постоянно Сашка что-то сочинял, а Иван ему верил.
Сашка год назад перевёлся в их класс. Его отец был военным, и до этого Сашка учился в разных городах: семья следовала за отцом, которого переводили по службе. Фамилия у него была смешная – Дудка. Но почему-то она ему очень подходила, так что над ней в классе никто не смеялся.
Сначала Сашка очень не понравился Ивану. Худой, на вид какой-то щуплый, невысокого роста, с чёрными, просто смоляными волосами, и при этом всё лицо его было в огромных рыжих веснушках. Наглая улыбка, резкий, громкий голос. Он никогда не лез за словом в карман. Громко и уверенно высказывал своё, иногда очень неожиданное и оригинальное, мнение по любому вопросу. Просто возмутитель спокойствия какой-то.
Свой статус новенького в классе он проигнорировал и смело и нагло влезал в любые разговоры одноклассников и дела класса. Очень подвижный и беспокойный, он являл собой полную противоположность спокойному и тихому Ивану. Весь класс резко поделился пополам: первая половина горячо приняла Сашку, вторая – испытывала к нему резкую неприязнь. Иван поначалу был во второй половине класса.
Но постепенно, приглядываясь к Александру, Иван, к своему удивлению, начал невольно восхищаться его открытостью, а также искренностью, граничащей с глубокой наивностью. К тому же Сашка обладал бесспорными талантами: его шутки были оригинальны и смешны, он красиво рисовал, но главное – сочинял какие-то совсем не по его возрасту «взрослые» стихи и песни, а также очень прилично пел и играл на гитаре.
Саня очень трепетно относился к своему отцу Павлу Александровичу, много о нём рассказывал. Отец его, бывший в звании подполковника, ушёл по возрасту в отставку как офицер запаса и через какое-то время появился у них в школе. Начал преподавать военную подготовку. После уроков вёл для мальчишек секцию борьбы вольного стиля, впоследствии переименованную в самбо. Он проводил в школе дополнительные кружки, готовил ребят к сдаче норм ГТО, противовоздушной и противохимической обороны – ПВХО, к «Ворошиловскому стрелку» и к «Готов к санитарной обороне».
«Да, в школе нас пытались серьёзно подготовить к войне, – подумалось Ивану. – Готовились, готовились, да всё равно не готовы оказались…»
Павел Александрович был строгий мужчина, невысокий, квадратный, с пышными усами. Санёк участвовал почти во всех школьных занятиях отца. Часто они ходили по школе вместе, одноклассники в шутку говорили:
– Вон, смотрите, опять Пал-Санка с Сан-Палкой пошли…
Ивана тянуло к Сашке. Проводя с ним всё больше и больше времени, он сильно к нему привязался. В итоге они крепко сдружились и стали просто не разлей вода. Всегда их видели вдвоём, они сидели за одной партой, вместе делали уроки, вместе иногда сбегали с них. Часто допоздна засиживались друг у друга в гостях, потом долго по очереди провожали друг друга до дома, расставаясь традиционно где-то посередине пути между их домами. Саня жил далековато от дома Волгиных, на Транспортной улице. Его семье, отцу-военному, выделили просторную квартиру в новых, недавно построенных в этом районе домах.
В тот жаркий июньский день они потащились искать эти древние монеты на пустырь. Сашка увлечённо рассказывал, что где-то в этом районе часто околачивается со своей компанией его давний враг, хулиган Колька Кивин. Однажды Кивин пристал к Саше, когда он возвращался домой из музыкальной школы, и если бы не гитара и не ноты в папке, которые разлетелись по брусчатке, когда Кивин его толкнул, то Сашка его бы обязательно взгрел по полной. И всё в таком духе.
И надо было такому случиться, что когда они продрались сквозь кустарники, буйно разросшиеся вдоль сухого берега, и вышли на небольшую плешивую полянку, то как раз наткнулись на компанию Кивина.
Им навстречу двигались пятеро пацанов, примерно таких, как они, ну, может быть, чуть постарше. Впереди шёл, небрежно засунув руки глубоко в карманы и нагло поблёскивая глазами из-под козырька серой пыльной кепки, надвинутой на самый лоб, не кто иной, как Колька Кивин собственной персоной.
– Вот чёрт, влипли, – только и успел ругнуться Санёк, – сходила бабка за монетками…
– Это же Кивин. И ты его сейчас «взгреешь», как собирался, – попытался сострить Иван, хотя ему всё больше становилось не по себе.
– Ага, взгрею, как же… Потом догоню и ещё раз взгрею. Только чего-то, Вано, мне ссыкотно…
Ватага приближалась к ним. Видно было, как напряглись, словно в стойке у гончих собак, их фигуры и все они внимательно смотрят на Санька с Иваном. Разворачиваться и быстро уходить было уже поздно, да и стыдно.
– Э! Пацанва, а ну стоять! – глухо пробасил Кивин и, отделившись от своей компании, быстро приблизился к Ивану с Сашкой.
– Деньги есть, пацаны? – хмуро обратился он к ним.
– Нет денег, – стараясь говорить спокойно и миролюбиво, протянул Иван, машинально ощупывая в кармане брюк всё своё богатство: три пятнадцатикопеечных монеты.
Уж очень не хотелось Ивану связываться с этими ребятами. Он чувствовал, как липкое ощущение страха начинает сковывать его движения, слова и даже мысли.
– Ну есть. И что? – вдруг с вызовом выпалил Саня.
– Опа! Это чо тут за фраера на катушках? – услышав ответ Санька, заорал один из спутников Кольки, долговязый, подстриженный под ноль пацан. Он приблизился к ним развязной походкой.
Смерив глазами Ивана, долговязый вдруг подмигнул ему и неожиданно улыбнулся. Улыбка оказалась какой-то совершенно детской, обезоруживающей. Иван, не удержавшись, улыбнулся ему в ответ. А долговязый, обходя их вокруг, неожиданно, исподтишка, сзади и сбоку, смачно врезал Саньку по челюсти и тут же отскочил в сторону. От неожиданности Саня чуть не упал, но выпрямился и замер, схватившись за челюсть. Так он стоял и молчал. Видно было, что он порядком струхнул.
– Не лезь! Я сам с ними разберусь, – одёрнул долговязого Кивин, и в наглых глазах его зажглись два угрожающих огонька.
Остальная компания, включая долговязого, плотно окружила их, рассредоточившись со всех сторон, правда, вплотную не приближаясь.
Кровь горячо прилила к лицу Ивана. На лбу выступил пот. Страх, чувство унижения и жгучий стыд – всё это смешивалось в нём, как в каком-то котелке, подвешенном над огнём. Иван понимал, что после этого подлого выпада долговязого он должен был наброситься на него. Надо было влезть в драку, а там будь что будет. Но ноги приросли к земле. Только сильно стучало сердце, отдаваясь где-то в висках.
На всю жизнь Иван запомнил тот постыдный для себя случай, когда, испугавшись, он не вступился за друга. Фактически предав его. Потом, во многие минуты опасности, у него в памяти вихрем проносились воспоминания того дня, и это помогало ему справляться со своим страхом.
А тогда Колька Кивин двинул совсем не сопротивлявшегося ему Санька по лицу. Разбил тому губу, кровь потекла по подбородку. Потом Кивин харкнул им под ноги, процедив обоим:
– Ссыкло.
И, медленно развернувшись, пошёл догонять свою компанию, которая потеряла к ним всякий интерес. Погогатывая, они уходили с этого ставшего печальным и мрачным пустыря – свидетеля их позора.
Они какое-то время стояли и ошарашенно смотрели друг на друга. Неожиданно Сашка, растянув разбитые губы в улыбке, дурашливым, нарочито высоким голосом прошепелявил:
– Штрашно мне чего-то стало…
Иван не удержался и прыснул от смеха. Но тут же серьёзно добавил:
– Да и я, Саня, испугался, если честно. А должен был длинному по кумполу настучать, а ты – с Кивиным этим подраться.
– Да они бы нас впятером уделали бы, наверное. Как хорёк тараканов…
Они немного помолчали, обдумывая, как бы эти пацаны их «уделали». Санёк неожиданно предложил:
– Слушай, а давай их догоним и надаём, а?
Внезапно обрадовавшись такой возможности реабилитироваться, хотя бы в собственных глазах, Иван с готовностью ответил:
– А давай. Побежали! Они недалеко ушли.
Дальнейшее со стороны выглядело очень глупо. Прячась за деревьями, углами Иван с Сашкой догнали компанию Кивина. Колька шёл чуть позади остальных, разговаривая с каким-то щуплым пареньком. На этих двоих сзади, без предупреждения, совершенно по-глупому и по-подлому, налетели Иван с Саней. Санёк сбил с ног щуплого. А Иван, отвесив увесистого пинка Кольке, да такого, что он сам, как ему показалось, чуть не сломал об него ногу, лихорадочно замолотил кулаками по затылку Кивина. Кепка с того слетела, сам Кивин, пронзительно заорав, свалился тоже.
– Валим! – крикнул Саня.
И друзья, резко развернувшись, ринулись убегать.
Пробежав, петляя по дворам и пустырям, с километр, они, задыхаясь, обнаружили, что за ними никто и не гонится.
Отдышавшись и не сказав друг другу ни слова, они разошлись по домам в тот день.
Странно, но после этого случая кивинская шпана их зауважала и больше никогда не трогала. А со временем сам Колька Кивин даже немного сблизился с Саньком. Сошлись они из-за умения Сашки играть на гитаре. Однажды Колька, держась, как всегда, нагло и независимо, заявился домой к Саньку и сурово попросил дать ему несколько уроков игры на гитаре. Кивин, оказывается, страстно хотел научиться «лабать» дворовые матерные песенки. Особенно ему хотелось петь под гитару свою любимую: «Свинчаткой вдарю я по тыкве волосатой…» – грустную песню о том, как «фраерам» никак «не дают жизни» злые «мусора». А учиться в музыкальной школе ему было западло. Санёк за несколько занятий успешно научил его нескольким блатным аккордам.
Думая об этом, Иван вспомнил и смерть хулигана Кольки Кивина.
6
Погиб Николай Кивин, когда они тяжело отступали к Дону. Их стрелковая дивизия, будучи в составе теснимой фашистами 64-й армии, находилась после изнуряющего ночного перехода на отдыхе в районе станции Ложки близ хутора Логовский.
Отдых, так толком и не начавшись, был прерван приказом заместителя командующего армией выступить с занимаемого района для подготовки оборонительного рубежа по восточному берегу реки Лиска в районе хутора Бурацкий. Основной целью было помочь находившейся на том участке малочисленной бригаде морской пехоты, обеспечивать стык с 62-й армией и не допустить прорыв противника в глубину обороны.
В сущности, для Ивана это были бои на дальних подступах к Сталинграду. Так он это для себя и понимал.
На базе оперативного управления Юго-Западного фронта 12 июля 1942 года был создан фронт, связанный в своём названии с родным для Ивана городом – Сталинградский. Этот фронт объединил в себе целых семь общевойсковых армий, да ещё одну – воздушную. К тому же все знали, что на базе резервных армий Сталинградского фронта дополнительно формируются ещё две армии – танковые. «Большая сила!» – думал тогда Иван.
Командующим Сталинградским фронтом был назначен маршал С. К. Тимошенко, а с 13 августа сорок второго командующим фронта будет генерал-лейтенант А. И. Ерёменко. Перед фронтом была поставлена задача остановить противника, не дать ему выйти к Волге.
Это были трудные дни. Приходил приказ отступать – и они отступали. Иван тогда много думал над этим. Он пытался себя успокоить, что в этих длительных отступлениях имеется какой-то скрытый смысл. Может, надо было дать немцам глубоко завязнуть в своём наступлении, растянуть свой фронт, а значит, и всю линию атаки? А следовательно, всем этим ослабить врага? Думая так, он понимал, что обманывает самого себя. Пытается найти оправдание всему происходящему. Получается плохо.
Но уж очень неравными были силы. К началу боёв на сталинградском направлении против наших войск были выдвинуты четырнадцать немецко-фашистских дивизий, превышавших советские войска почти в два раза по численности и количеству орудий. В три раза у немцев тогда было больше самолётов. Существенное превышение было и по количеству танков.
Огромной железной махиной катились фашистские войска по родной земле к Дону и Волге, стремясь подмять, растоптать и уничтожить всё, что встречалось ей на пути. Колоссальная поддержка была у немцев с воздуха. Немецкие самолёты, по сути хозяйничая в небе, наносили огромный урон нашим войскам и всей наземной инфраструктуре. Они бомбили и мирные поселения.
Потери нашей армии были огромными. Необстрелянное пополнение сразу бросали в бой. На смену выбывшим прибывали новые бойцы. Казалось, что единственное, в чём нет недостатка у нашей необъятной Родины, так это в живой силе. Промышленность страны разместилась почти вся за Уралом, в Сибири и работала как никогда напряжённо, круглосуточно, пытаясь обеспечить армию тяжёлой техникой, танками, снарядами, вооружением и всем, что требовалось. Но всё это как будто оседало где-то в резерве, не доходя до фронта.
Ивану хотелось верить, что где-то там, в тылу, наливается огромной силой сжимающийся кулак возмездия. Кулак, который пока не виден и который всё никак не обрушится на головы врага. И надо ждать. А воевать приходилось здесь и сейчас, рассчитывая при этом исключительно на свои, тающие с каждым днём силы и ресурсы.
Тогда, в июле сорок второго, принимая пополнение в своё на две трети поредевшее отделение, Иван, считающий себя уже опытным и стреляным бойцом, с неудовольствием отмечал совсем «небоевой» вид прибывших бойцов. Двенадцать щуплых мальчишек, сжавшись в кучку, неровно сгрудились вдоль линии окопа. Они с опаской смотрели на него, вздрагивая и вжимая голову в плечи от дальних разрывов немецких снарядов. Разрывы ложились вдалеке от их позиций, поэтому «старики» не обращали на них внимания.
И тут, присматриваясь к отдельно и как-то независимо от всех стоящему пареньку, Иван наткнулся на наглые глаза Кольки Кивина.
– Привет, земеля, – протянул Кивин, первым узнав Ивана, – ты у нас за командира будешь, чо ли?
Странно, но Иван очень обрадовался ему. На войне всегда радуешься встреченному земляку. И не важно при этом становится, что в родном городе вы совсем и не были друзьями. Такое же чувство, похоже, испытывал и Колька. И поддавшись этому какому-то неожиданному порыву, Иван, подойдя к нему, вдруг приобнял Кивина и дружески похлопал того по плечу.
– Ну чо, воевать-то будем? Или обниматься? – отстраняясь, буркнул Кивин каким-то другим, чуть дрогнувшим голосом, в котором уже не звучали те нагловатые нотки, что слышались вначале.
Пополнение принимали в полдень, а к трём часам дня половина из них погибла при авианалёте. Погиб тогда в неравном бою пехоты с тремя «мессершмиттами» и Николай Кивин.
Сначала над позициями дивизии долго болталась в воздухе «рама». Так из-за особой двухбалочной конструкции все называли немецкий самолёт-разведчик «Фокке-Вульф». Широкий размах несуразно длинных крыльев с расположенными на них моторами и соединённая двойная хвостовая часть придавали самолёту форму, напоминающую рамку для картины. По самолёту-разведчику не стреляли, это было бесполезно. Да их и не опасались, с «рамы» редко сбрасывались бомбы. Стрелять было слишком высоко. А зенитной артиллерии у них тогда в дивизии не имелось, несмотря на наличие целой отдельной зенитной артиллерийской батареи. Не было пока зениток.
«Рама» удалилась, оставляя высоко в небе слабый серебристый след. Через полчаса воздух прорезало монотонное и нарастающее, знакомое уже Ивану отвратительное гудение. Летя друг за другом, к ним приближалась тройка «мессершмиттов». По команде «Воздух!» всё пришло в движение. Солдаты разбегались с открытых участков, искали укрытие. Многие при этом занимали удобные для стрельбы вверх позиции.
Так уж сложилось, что всегда при виде немецких самолётов наши бойцы открывали огонь изо всех видов стрелкового оружия. Повелось так не сразу, не с самого начала войны. Стреляли из винтовок, противотанковых ружей, автоматов и пистолетов.
Уже здесь, в госпитале, Ивану довелось пообщаться с нашим лётчиком, который рассказал ему, что при атаках советских штурмовиков фрицы всегда сразу прятались в окопы и блиндажи и, в отличие от наших, никогда не пытались оказывать существенного сопротивления.
– Фашисты, как мыши, сразу в норы забиваются, – смеясь, говорил лётчик, – а наши, как воробьи задиристые, всегда огрызаются.
«Мессершмитты» с рёвом заходили на снижение, неуловимо исчезая из виду и появляясь неожиданно, стремительно проносились вдоль позиций, поливая их огнём из своих пулемётов. Два самолёта из тройки скинули бомбы в стороне от того места, где укрылся Иван.
В ушах гудело. В воздухе стояла взметнувшаяся взрывами пыль, перемешанная с толом. Горло нещадно саднило, хотелось откашляться, но не получалось. Слышались крики раненых бойцов. Перекрывая общий шум, на высокой ноте разносилось вокруг протяжное лошадиное ржание. Одна из бомб угодила в стоявший рядом в рощице обоз, разметав в стороны людей, подводы и запряжённых в них лошадей.
Иван пытался поймать в прицел своей винтовки эти неуловимые воздушные мишени. Ничего не получалось, но он стрелял, как и все вокруг. Краем глаза он заметил, как Кивин, не пригибаясь и не прячась, метнулся в сторону залёгших неподалёку бойцов-бронебойщиков. Подбежав к ним, Колька ухватил одной рукой поперёк длинного чёрного ствола противотанковое ружьё, лежащее рядом с укрывшимися и не стрелявшими по самолётам бойцами, а другой – небольшой ящик с патронами и поволок всё это к краю рощицы. Там, на переднем крае этой рощицы, торчал высокий разлапистый пенёк – обрубок дерева, посечённого бомбёжкой. Приладив неудобный, тяжёлый ствол в одну из расщепин этого обрубка, Николай начал обстреливать пикирующие вражеские самолёты.
Так он стоял на самом открытом месте, громко матерясь и посылая в небо один бронебойный патрон за другим.
Один из «мессеров» улетел. Двое оставшихся, следуя друг за другом, заходили на вираж и начинали снижаться над Николаем, непрерывно строча пулемётами. Отчаянно поворачивая стволом, силясь лучше прицелиться, Кивин не обращал никакого внимания ни на царивший над ним визг и гул, ни на разрывающиеся рядом с ним пулемётные очереди, вздымающие фонтанчики из земли и щепок вокруг него.
Внезапно из-под жёлто-серого брюха первого номера повалил густой чёрный дым. Самолёт качнуло в сторону, он криво развернулся и, оставляя за собой тягучий чёрный след, полетел на запад.
– Попал! Твою-ж-ядрить-Бога-душу-мать, попа-а-ал! – истошно завопил Колька и осёкся, срезанный, прошитый насквозь пулемётной очередью второго номера.
Бойцы, выбежав из укрытий, кричали «Ура!», подбрасывали вверх пилотки и каски. Все смотрели вверх, провожая взглядами чёрный след подбитого – несомненно, Колькой – самолёта. След уходил за линию горизонта, приближенную высокими деревьями, за которой чуть позже раздался густой хлопок. И взрывом над местом падения вражеского самолёта в воздух взметнулось большое округлое чёрное облако.
Новый радостный крик пронёсся над нашими позициями. Но Николай всего этого уже не слышал. Последний «мессершмитт», сделав ещё один круг, расстрелял, снизившись, ещё раз мёртвое, распластанное на земле тело Николая и, резко качнув крыльями, улетел.
Позднее красноармеец Николай Кивин был посмертно представлен за сбитый им немецкий самолёт к награде – медаль «За отвагу». Он погиб 17 июля 1942 года. В этот день к рекам Чир и Дон вышли передовые части фашистских войск в составе 6-й полевой армии вермахта под командованием генерал-лейтенанта Паулюса. Здесь с ними вступили в бой наши части 62-й армии.
Так на дальних подступах к городу, в большой излучине Дона, началась великая Сталинградская битва.
Грузно заворочался сосед слева, тяжелораненый и контуженный боец Смирнов. Попросил пить. Волгин поднялся, сходил к стоящему в углу баку с водой, зачерпнул жестяной кружкой, поднёс к губам солдата. Балагур Маркин, крепко забывшись беспокойным сном, громко бормотал что-то неразборчивое. Отчётливо слышались только постоянно перемежающие это бормотание ругательства. Маркин и бодрствуя, и засыпая, не был воздержан на язык.
Оглядывая больничную палату, всматриваясь в лица раненых бойцов, Иван подумал, что так было всегда – всегда шла война, – и не было никакой «мирной жизни». Настолько была огромной пропасть, которая пролегла между тем временем и этим.
И трудно было понять, что больше смахивало на сон: жизнь до войны с её кажущимися сейчас нереальными, недосягаемыми радостями и ничтожными проблемами или война – один сплошной страшный и кровавый сон, который никак не заканчивается.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе