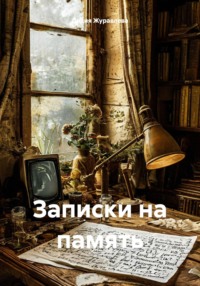Читать книгу: «Записки на память»
Послесловие к ненаписанному роману (о «Записках на память» Лидии Журавлёвой)
Поэзия в прозе – явление в литературе удивительное и требующее достаточного уровня мастерства и подготовки, прежде всего – трудолюбия, менее всего – вдохновения.
Тем интересней мне было прикоснуться к «Запискам на память» Лидии Журавлёвой, автору заслуженному и самобытному, и всё благодаря её поэтическому видению мира. Переход от лирики к прозе для поэта так же естественен и необходим, как и работа над поэтическим текстом; ибо подлинный поэт – человек и живёт среди людей. И когда поэт пишет прозу – это всегда будет, вольно или не вольно, развёрнутый поэтический текст. Сама по себе проза поэта – лирична и содержит множество планов, не всегда осознаваемых им самим. А осмысливание приходит к поэту только в момент создания текста. Поэт пишет прозу чтобы вспомнить и – помнить.
Человеческая память избирательна и способна отсеивать факты и события былого, художественно дополняя недостающие фрагменты. В этом смысле, проза поэта восстанавливает бывшее, как реальность, которая никуда не исчезла. В прозе поэта Лидии Журавлёвой временные пласты создают цельную мозаичную картину былого. Личный пережитой опыт поэта становится в прозе осмысленным и имеет созидательное продолжение. Так время прошедшее имеет прямую связь с настоящим и влияет на время будущее, которое формируется по заданному канону. Поскольку не бывает лирики поэта в отрыве от прошлого, то и прозы тоже не бывает. А описанная поэтическим языком жизнь поэта – и есть пример достойной и правильной жизни. Поэт впитывала в себя виденное и слышимое, но не противопоставляла его себе, а умело использовала для построения своей жизни.
Примерная учеба, активность в общественной жизни, любознательность и коллективизм, самым положительным образом позволили сформировать и представить миру в своё время новый поэтический голос – поэта Лидию Журавлёву. Каждое её опубликованное произведение содержит свет и тепло добра. От поэтической строфы к прозаической строке движется мысль поэта. За этим движением стоит глубокая любовь и благодарность к людям. Её не создать сиюминутно, сценически не сыграть, не притвориться. Это не игра в образ поэта, а подлинное существование. Идти в ногу с поэтом не просто. Для этого читающий сам должен сверить свои часы с текстом поэта, спросив себя: «А правильно ли я живу?.. Что во мне не даёт понять текст поэта?.. Почему этого раньше я не встречал, а если встречал, то видя не видел?..»
Осознание приходит не сразу. Удивление самому себе – главное, что даёт творчество поэта. У Лидии Журавлёвой это есть и будет. И одна из наград ей – знание того, как отзывается в сердцах людей её слово.
Лети, Журавушка, лети!
Василий Зозуля,
Председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Российского союза писателей, г. Нижневартовск
От автора
Тихим светом изнутри подсвечены,
На страницах старого альбома
Проступают, с временем повенчаны,
Лица тех, с кем были мы знакомы.
Журавушка

Ещё недавно такое занятие, как перелистывание старых альбомов с фотографиями, было делом обычным. Найти себя в нарядном платьице и обязательно с бантом набок, увидеть лица тех, кто остался жить только в сердце и на старых фото, вспомнить места, в которых ты когда-то был счастлив.
Но всё течёт, всё меняется. Тысячи, десятки тысяч фото в компьютерах и смартфонах так и останутся лежать, никем не потревоженные, словно верстовые столбы нашей жизни, занесённые песком времени в человеческой пустыне. Вот почему возникает желание записать то, что было, есть и, быть может, будет, чтобы вспомнить и почувствовать всё заново и оставить за собой след.
Когда-то в Омске
Полечка
Мне отчаянно не спалось. Я добросовестно пересчитала всех знакомых и незнакомых слонов и, наконец, сбилась со счета. Засыпая, краешком сознания я увидела девочку лет двенадцати, которая как будто ждала меня у приоткрытой двери. Дверь показалась мне на удивление знакомой. Ручка её со слегка отколотым краешком словно когда-то уже лежала в моей руке…
– Что же ты смотришь? – нетерпеливо махнула рукой моя ночная гостья.
– ?…
– Дверь может сейчас закрыться!
Я накинула на себя первое попавшееся под руку и, только успела перешагнуть порог, как дверь за мной захлопнулась. Оглядевшись вокруг, я поняла, что снова очутилась в доме, которого давно нет – в том доме, где прошло моё детство.
Девочка, поманившая меня за собой, куда-то исчезла. А у меня возникло странное чувство: с души словно спал огромный гнетущий груз, и появилась необыкновенная лёгкость. Казалось, если захочу, то смогу и бегать, и прыгать, и даже летать. Все заботы, тяготы минувшего длинного трудного дня враз отступили и оказались несуществующими.

Из большого зеркала в прихожей на меня глядели улыбающиеся глаза уже знакомой мне девочки. Это и удивило, и позабавило. Внезапная догадка ошеломила: я поняла, что сейчас я – это я, но много-много лет назад. Годы как будто бы спали с меня, как одежда не по сезону, и я была снова готова вбирать в себя мир, вдыхать его полной грудью.
Я зашла в комнату, в которой жили мы с бабушкой. "Полечка", так ласково мы все её звали. Мои родители были всецело поглощены работой и делами насущными, а мы с братом предоставлены самим себе и неусыпным заботам бабушки. За Полечкиными плечами были всего три класса церковно-приходской школы, но она исправно спрашивала с нас с братом выученные уроки, заставляя заниматься в строго отведенное время. И я, и брат учились хорошо, и у родителей никогда не было проблем с нами в школе. Бабушка часто пела нам народные песни и самой любимой песней была у неё "Тонкая рябина". До сих пор, слыша эту песню, я с трудом сдерживаю слёзы.
Полечка научила меня читать года в четыре, и я до сих пор предпочитаю чтение многим другим занятиям. У неё было много цветов, и она приучила нас с детства относиться к ним, как к живым существам. Неудивительно, что бабушка была для нас самым близким и дорогим человеком. Она могла и пожурить нас, и пристращать тем, что пожалуется папе и маме, но мы относились к её воспитательным мерам со свойственной детям легкомысленностью и оставались такими же неугомонными и шаловливыми.
В комнате было темно и тихо. Тишину нарушали редкие всхлипывания, и я, включив настольную лампу, увидела, что бабушка вытирает покрасневшие глаза.
– Что случилось, Полечка? Ты плачешь?
– Мама… Мама… – голос Полечки прерывался, – мама выбросила из дома мои цветы!
– Как выбросила?
– Она сказала, что цветы – это мещанство, и пересадила их из горшков прямо в огород, – и Полечка зарыдала навзрыд, – так когда-нибудь и со мной будет.
Мы жили в Омске, и то, что цветы из теплого дома попали в холодную сырую землю, могло означать только их неминуемую гибель. Я понимала это и, зная, как бабушка трепетно относилась к своим туям, аспарагусам, фикусам, растерянно хлопала глазами и не могла, не смела произнести какие-то слова в осуждение мамы, хотя внутри меня всё кричало. Мама всегда знала, что делала и была неоспоримым авторитетом в нашей семье. Наверное, у неё был резон поступить именно таким образом.
Мне и в голову тогда не пришло, что я могла как-то утешить, успокоить бабушку. Прошло много лет с этой сцены, но только сейчас я поняла, что неподдельное бабушкино горе и моё растерянное предательское молчание мучили меня до сих пор.
И тогда я заговорила.
– Полечка, не плачь, пожалуйста. Не надо, родная! Мы с тобой посадим другие цветы, и я сама буду ухаживать за ними так, как ты меня научила. Правда-правда! У нас будет много цветов, мы с тобой ещё порадуемся им.
Тут я сама заплакала, и мы, обнявшись с бабушкой, плакали уже вместе. Я обняла её крепко-крепко, гладила седую голову и чувствовала, что мои любовь, тепло и искреннее сочувствие передаются через нежные прикосновения. Полечка понемногу успокоилась.
– Давай спать, внученька!
И мы заснули.
Проснулась я от первых лучей солнца, чертивших крестики-нолики на моей подушке. Открыв глаза, я поняла, что благополучно вернулась в моё "сегодня". На окне стояли комнатные цветы, нетерпеливо расправляя свои листочки навстречу солнечному свету. А у меня на душе было радостное и спокойное чувство от сознания того, что мне удалось сделать что-то важное.
Про девочку, которая любила сказки
Жила-была одна маленькая-маленькая девочка. И были у нее, как и у всех детей, наверное, мама и папа, которые девочку очень любили. Мама ее была хорошая такая советская женщина, врач, а папа у девочки был Поэт. А вы ведь знаете, что все поэты такие фантазеры и выдумщики, что, даже если чего-то и не будет, то они и присочинят. Им – недолго.
Так вот, пока девочка была маленькой, папа ее решил, что ничего лучше не может быть, чем ребенка с детства приучить к тому, что в жизни есть и волшебники, и сказки, и волшебства всякие. Чтобы девочка знала, что вся жизнь – это такая большая сказка.
И что, вы думаете, ее папа стал делать? Он стал сам делать всякие волшебства. Вот, например, спит ночью девочка, у нее завтра, к примеру, день рождения. Так папа ее ночью разбудит, и девочка видит, как над натянутой простыней игрушечные куклы сами разговаривают и всякие подарки ей на игрушечных автомобилях выкатывают. Девочке это очень нравилось, только мама почему-то очень пугалась. Наверное, думала, не станет ли девочка дурочкой, когда вырастет? И маму можно понять.
Или вот еще: опять же в день рождения девочки папа брал свое ружье, выходил на крыльцо, стрелял и громким голосом кричал: «По щучьему веленью, по- моему хотенью появитесь подарки за такой-то дверью!» Девочка, оглушенная выстрелом и плохо соображающая, спотыкаясь и путаясь в чулках, бежала за эту дверь, а там были всякие разные подарки, но чаще всего – книги. Папа-то ее ведь Поэтом был и книжки любил больше всего на свете. Наверное, даже больше мамы. Мама так всегда ему сама говорила.

Девочка научилась читать очень рано, раньше, чем ей 4 года исполнилось, но не потому, что умная была, а потому что с ней особо водиться или заниматься было некому. Мама работала на важной работе, вакцину на всю страну выпускала, папа, как водится у поэтов, стихи и песни писал («Погас закат за Иртышом» – слышали?), а бабушка была старенькая и с утра до вечера на кухне суп варила. Нет, конечно, книжки ей читали, но только до того времени, как её саму читать научили.
А еще она очень любила пересказывать сказки. Причём пересказывала одновременно (могла и с одним общим сюжетом) сразу несколько сказок, потому что, наверное, в голове, у нее каша из сказок варилась. И почему-то любая сказка заканчивалась словами : «И они поженились», – и сказка про Курочку Рябу, и Сказка про белого бычка, и любая другая сказка. Не помню точно, но, наверное, ей казалось, что таким должен быть счастливый конец у любой сказки. Думаю, что она была недалека от истины.
Девочка очень любила ходить под дождём. И, если её «загоняли» домой с прогулки: «Дождь на улице! Иди скорее!", – то эта вредная девчонка стояла, как столб, по её лицу текли реки дождя, а она гордо отвечала: "На улице нет дождя". Так она получила прозвище сродни индейскому имени «Девочка-на-улице-нет-дождя». Вот как-то так.
Когда девочка подросла и пошла в школу, ее стали звать «врушей». Все то многое и не по ее возрасту, что она читала запоем дома (а отец девочки имел очень большую, по тем далеким временам, даже огромную библиотеку, – ведь он был Поэт, как вы помните), у девочки складывалось в причудливый калейдоскоп, и она порой сама не могла отличить реальные события от воображаемых, в смысле, от где-то прочитанных. Это теперь я понимаю, что никакой врушей она не была, а была отчаянной фантазеркой, но такого слова, наверное, ее подруги не знали. Они иногда сердились и обижались на девочку, если она начинала про кого-нибудь из них рассказывать сочиненные ей небылицы. Ну, сами посудите, кому бы это понравилось? Да никому.
Но подружки быстро забывали свои обиды, – девочка была, наверное, добрая, смешная и с ней было весело. Она так интересно рассказывала про невиданные страны, небывалые вещи, захватывающие приключения! А ведь телевизоров тогда с мультиками и сериалами не было, вот они ее и терпели по доброте своей душевной.
Потом девочка выросла. Она пробовала и научилась писать и стихи, и то, что, как оказалось, называлось строгим словом «проза». Смешное слово «прозаик» она услышала довольно поздно, ведь ее отец был не прозаик, а Поэт, я уже об этом говорила. И она, когда слышала это непонятное ей слово, всё думала: про каких это про заек? То ли дело гордое имя – Поэт!
Девочке не суждено было стать ни поэтом, ни прозаиком. Она окончила не литературный, а медицинский институт, как и её мама, и стала простой советской девушкой, «комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей» а потом и простой советской женщиной, членом той партии, которая тогда была одна на всю страну, и все хорошие люди туда вступали. Членом этой партии был и её отец, который дошёл в сорок пятом до Праги.
Судьба не приготовила этой девочке в жизни никаких сказок. Она хорошо училась, может, и лучше всех, была даже Ленинской стипендиаткой (а это – ого-го!), но в институте остался совсем другой мальчик. И девочка, бывшая первой на курсе по распределению, ткнув заплаканным пальчиком на пустое место в карте, гордо уехала в далекий новорожденный город, – тогда он еще не был городом. Дальше в ее жизни довольно часто что-то, кажущееся сказкой, неожиданно быстро превращалось во что-то совершенно не сказочное. Но она научилась этого не бояться, а с этим справляться. А как жить иначе?
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе