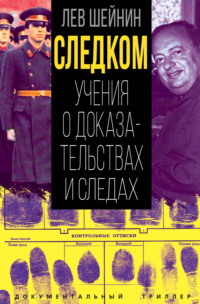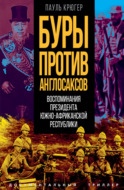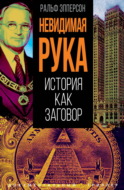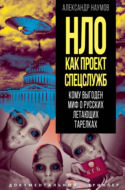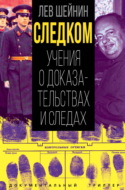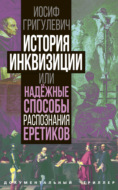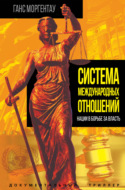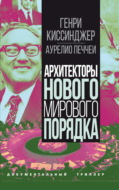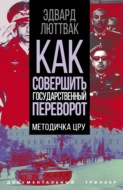Читать книгу: «Следком. Учения о доказательствах и следах», страница 3
Письменные доказательства
Письменными доказательствами являются всякого рода документы, которые удостоверяют факты, имеющие значение для данного дела; таковы: справки, удостоверения, характеристики обвиняемого, выданные различными учреждениями и организациями; акты ревизии, выписки, счета и т. п. Письменные доказательства включаются в дело без особого о том постановления следователя. Это, однако, не исключает обязанности следователя тщательно отбирать письменные доказательства и включать в дело только те из них, которые действительно имеют существенное значение. В противном случае дело может разбухнуть и оказаться загроможденным большим количеством ненужных документов, которые только будут затруднять ознакомление с делом и пользование им в суде.
Иногда тот или иной документ имеет значение как предмет, путем исследования которого устанавливаются факты, имеющие значение для дела; таковы, например, подложная накладная, подложный чек и т. п. В этих случаях документ представляет собой вещественное доказательство и для его приобщения к делу требуется, как и в отношении всех других вещественных доказательств, соответствующее постановление следователя.
Классификация доказательств по содержанию
Обвинительные и оправдательные доказательства
Обвинительными являются те доказательства, которые устанавливают виновность обвиняемого либо обстоятельства, отягчающие его вину (показание свидетеля, удостоверяющего, что он видел, как обвиняемый нанес ножом рану потерпевшему; показание свидетеля, характеризующего обвиняемого как хулигана, который терроризирует все село, и др.). Оправдательными являются те доказательства, которые устанавливают невиновность обвиняемого, либо обстоятельства, смягчающие его вину (показание свидетеля, удостоверяющего, что обвиняемый нанес рану потерпевшему, спасаясь от нападения последнего, показание свидетеля, дающего положительную характеристику обвиняемого, и др.). В частности, оправдательным доказательством является так называемое алиби; это доказательство, устанавливающее, что во время совершения преступления обвиняемый находился в другом месте и потому не мог совершить приписываемое ему преступление.
Деление доказательств на оправдательные и обвинительные не следует понимать в том смысле, что одни доказательства всегда являются только обвинительными, а другие – всегда только оправдательными. Возможны случаи, когда один и тот же источник доказательств по содержанию своему в одной части – обвинительный, а в другой – оправдательный. Таким доказательством будет, например, показание свидетеля, который утверждает, что видел, как обвиняемый нанес ножом рану потерпевшему, но вместе с тем дает положительную характеристику обвиняемому и удостоверяет, что обвиняемый, обычно тихий и сдержанный человек, совершил преступление потому, что был тяжко оскорблен потерпевшим.
Деление доказательств на обвинительные и оправдательные имеет существенное значение в связи с вопросом о полноте, всесторонности и объективности исследования дела: в соответствии с требованиями ст. 111 и 112 УПК РСФСР (и соответствующих статей УПК других союзных республик) следователь обязан в каждом деле собрать и рассмотреть как все обвинительные, так и все оправдательные доказательства.
Первоначальные и производные доказательства
Первоначальные – это те доказательства, которые по содержанию своему представляют собой первоисточник (показание свидетеля, являющегося очевидцем преступления; показание обвиняемого, признающего себя виновным в приписываемом ему преступлении, и др.). Если же данное доказательство содержит в себе сведения, полученные из другого источника доказательств, налицо доказательство производное (показание свидетеля, сообщающего сведения, которые им получены от другого лица).
Деление доказательств на первоначальные и производные имеет существенное практическое значение. Каждое доказательство в деле подлежит проверке и оценке, для того чтобы таким путем решить, правильны ли сведения, полученные посредством этого доказательства, соответствуют ли эти сведения действительности. Между тем отыскание объективной истины на основе одних лишь производных доказательств часто весьма затруднительно. Если, например, свидетель в своем показании сообщил сведения о преступлении, совершенном обвиняемым, но при этом указал, что сам он этого не видел и что сведения им получены от очевидца преступления, то в первую очередь должно быть рассмотрено и проверено показание данного свидетеля, чтобы решить, говорит ли он правду. Но если даже будет признано, что данный свидетель говорит правду, что он точно передал то, что слышал от другого лица, называющего себя очевидцем преступления, это еще не значит, что в действительности все было так, как сообщает указанный свидетель. Возможно, что лицо, называющее себя очевидцем преступления, сообщило свидетелю заведомо ложные сведения; возможно, что очевидец преступления неточно изложил ряд существенных обстоятельств; возможно, что свидетель, дающий показание со слов очевидца, неправильно понял последнего, и т. д. и т. п. Отсюда вытекает необходимость допросить то лицо, которое называет себя очевидцем преступления; иными словами, следователь, равно как и суд, не может довольствоваться одними лишь производными доказательствами и должен, при наличии к тому возможности, отыскать и рассмотреть доказательства первоначальные.
Это, однако, не значит, что производные доказательства не могут иметь места в советском уголовном процессе. Такой вывод был бы совершенно неправильным, так как в ряде случаев производные доказательства имеют весьма существенное значение для правильного расследования и разрешения дела. Например, если свидетель в своем показании сообщает определенные сведения со слов лица, называющего себя очевидцем преступления, то показание этого свидетеля, являясь производным, дает возможность следователю и суду отыскать при помощи его необходимые по делу доказательства первоначальные. Далее, иногда получение первоначального доказательства может оказаться, по обстоятельствам дела, невозможным, и в этом случае на первый план неизбежно выступают доказательства производные. Так, практике известны случаи, когда тяжелораненый потерпевший указал окружающим личность того, кто нанес ему рану; вскоре после того потерпевший умер и следователем допрошен не был. При таком положении вещей производные доказательства – именно показания свидетелей, слышавших рассказ потерпевшего и давших об этом показания – будут иметь очень важное, а иногда даже решающее значение по делу. Наконец, производные доказательства могут быть использованы и для проверки доказательств первоначальных. Если, например, лицо, которое ранее утверждало, что было очевидцем преступления, совершенного обвиняемым, затем по каким-либо соображениям изменило свое показание, утверждая, что оно по делу ничего не знает, то изобличение такого свидетеля в ложности его последнего показания может быть произведено посредством показаний свидетелей, которым в свое время очевидец преступления сообщил то, что ему было известно по данному делу, т. е. посредством производных доказательств.
Прямые и косвенные доказательства
В каждом уголовном деле должны быть в первую очередь разрешены два основных вопроса: было ли совершено преступление и кем оно совершено. В ряде случаев доказательства, имеющиеся в деле, дают прямой ответ за этот вопрос, иначе говоря, непосредственно устанавливают наличие или отсутствие преступления и виновность или невиновность обвиняемого. Таковы, например, показание свидетеля – очевидца преступления; сознание обвиняемого в совершенном им преступлении; показание свидетеля, устанавливающего алиби обвиняемого. Если эти и им подобные доказательства после их соответствующей проверки и оценки признаны правильными, то тем самым вопрос о событии преступления и о виновности или невиновности обвиняемого будет прямо и непосредственно разрешен. Поэтому такие доказательства называются доказательствами прямыми.
Другие доказательства не дают прямого ответа на вопрос о том, было ли совершено преступление и кто его совершил. Вместо того эти доказательства устанавливают различные побочные факты, которые в своей совокупности дают возможность решить вопрос о наличии преступления и о виновности обвиняемого. Такими доказательствами будут, например: показание свидетеля, удостоверяющего, что он видел обвиняемого выходящим из того дома, где спустя короткое время был обнаружен труп потерпевшего; показание свидетеля, удостоверяющего, что он слышал угрозы обвиняемого по адресу потерпевшего; показание свидетеля, видевшего, что обвиняемый сжег свою рубашку, на которой были пятна крови; вещи потерпевшего, обнаруженные у обвиняемого. Все эти факты – угрозы обвиняемого по адресу потерпевшего, нахождение обвиняемого на месте совершения преступления, наличие у обвиняемого окровавленной одежды, завладение обвиняемым вещами потерпевшего – могут в своей совокупности привести следователя и суд к выводу о том, что убийство совершено обвиняемым. Таким образом, в данном случае имеющиеся в деле доказательства – показания свидетелей и вещественные доказательства – приводят к решению дела косвенным путем, а именно устанавливают различные промежуточные факты, которые затем в своей совокупности дают ответ на вопрос о том, было ли совершено преступление и кто его совершил. Поэтому указанные доказательства являются доказательствами косвенными.
Глава 3
Теория косвенных доказательств (улик)
Деление доказательств на прямые и косвенные имеет огромное практическое значение. Некоторые преступления по своему характеру могут быть доказаны преимущественно прямыми доказательствами, главным образом показаниями потерпевшего и свидетелей-очевидцев, на основе которых дело получает свое разрешение. Таковы, например, дела о контрреволюционной агитации и пропаганде, о разбое, хулиганстве, нанесении телесных повреждений, об изнасиловании, оскорблении, о клевете и др. Но при расследовании и этих преступлений косвенные доказательства нередко играют видную роль, подкрепляя и подтверждая собой доказательства прямые; так, в делах о разбое показания потерпевшего могут быть подтверждены обнаружением у обвиняемого похищенных вещей; в делах об изнасиловании косвенным доказательством могут явиться повреждения, нанесенные обвиняемому потерпевшей, защищавшейся от насилия, и т. д.
Еще более важное значение имеют косвенные доказательства там, где по характеру совершенного преступления прямые доказательства, как правило, отсутствуют. Диверсионные и террористические акты, убийства, поджоги, кражи и многие другие преступления совершаются обычно в глубокой тайне и в отсутствие посторонних лиц; свидетелей-очевидцев преступления, следовательно, нет, а преступники сплошь да рядом отрицают свою вину, и остается один только путь раскрытия преступления и выявления преступника – это использование косвенных доказательств.
Было бы глубоко ошибочным противопоставить прямые доказательства косвенным и рассматривать первые как более ценные. Такая постановка вопроса прежде всего лишена всякого практического значения уже по одному тому, что следователь и суд не вольны выбирать по своему усмотрению те или другие доказательства, а обязаны использовать все те доказательства, какие по каждому данному делу имеются. Но и независимо от этого совершенно неправильно рассматривать те или иные доказательства как «лучшие» или «худшие». Советский уголовный процесс не знает и не допускает такого противопоставления. В одном случае дело будет правильно решено на основе прямых доказательств; в другом – все прямые доказательства, собранные по делу, могут получить отрицательную оценку со стороны суда и не будут положены в основу приговора. Наряду с этим возможно, что по иным делам будут собраны такие косвенные доказательства, которые в своей совокупности приведут суд к вполне обоснованному выводу о виновности обвиняемого в совершении приписываемого ему преступления. Все доказательства – и прямые, и косвенные – оцениваются следователем и судом по их внутреннему убеждению, основанному на рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности. Поэтому суд, а в стадии предварительного следствия – следователь, может и должен сказать, какова ценность, каково значение каждого данного доказательства в каждом отдельном деле.
Деление доказательств на прямые и косвенные определяет не различную степень их ценности, а только ту или иную степень сложности их использования и, в связи с этим, различные методы оперирования ими. Когда в деле имеются прямые доказательства, например показание потерпевшего и свидетелей, утверждающих, что они были очевидцами хулиганских действий обвиняемого, то задача суда заключается только в том, чтобы решить, являются ли эти показания правильными. Если после тщательного рассмотрения этих доказательств, каждого в отдельности и всех их в совокупности, суд придет к выводу, что свидетели говорят правду, правильно отражают в своих показаниях то, что имело место в действительности, то тем самым будет дан ответ на вопрос о виновности обвиняемого и, следовательно, дело будет разрешено по существу.
Иное получается при наличии косвенных доказательств. Если, например, свидетель утверждает, что слышал угрозы обвиняемого по адресу потерпевшего или видел обвиняемого выходящим из дома, где спустя короткое время был найден убитым потерпевший, то и в этом случае необходимо в первую очередь определить, говорит ли свидетель правду, не ошибается ли он в своих утверждениях. Однако здесь, в отличие от дел, где фигурируют прямые доказательства, суд, признав, что показания свидетеля являются правильными, может на этом основании только сказать, что обвиняемый действительно угрожал потерпевшему и действительно находился там, где было совершено убийство. Но ведь это еще не значит, что убийство совершил обвиняемый: угроза могла остаться, как это часто и бывает, нереализованной, а пребывание обвиняемого в доме, где проживал потерпевший, в связи с обстоятельствами, ни в какой мере к преступлению не относящимися, случайно могло совпасть по времени с убийством потерпевшего. Поэтому на основании анализа и оценки одних только приведенных выше косвенных доказательств нет возможности разрешить дело по существу и утверждать, что обвиняемый совершил приписываемое ему убийство. Для этого требуется установление ряда других фактов, которые только в своей совокупности могут, при известных условиях, дать ответ на вопрос о виновности обвиняемого.
Таким образом, разрешение дела на основе косвенных доказательств является более сложным и иногда более трудным, нежели использование прямых доказательств. «Путь прямых доказательств короче пути косвенных доказательств… Применение косвенных доказательств – дело более сложное и трудное, чем применение прямых»2.
Но из этого вовсе не следует, что путем косвенных доказательств дело не может быть правильно разрешено. Напротив: «будучи гармонически сведены в систему, косвенные улики вырастают в страшную – неотвратимую силу, превращаются в цепь доказательств, окружающих обвиняемого, через которую нельзя прорваться, нельзя никуда уйти»3.
Весь вопрос сводится, следовательно, к тому, каковы методы оперирования косвенными доказательствами, как должны они быть использованы, для того чтобы привести следователя, прокурора и суд к правильному решению, к отысканию объективной истины в данном деле. Ответ на этот вопрос определяется теми особенностями, которые являются характерными для косвенных доказательств и которые отличают их от доказательств прямых.
Особенности эти, как было уже сказано выше, заключаются в том, что косвенные доказательства не приводят прямо и непосредственно к выводу о виновности или невиновности обвиняемого, а устанавливают различные промежуточные факты, которые затем в своей совокупности дают ответ на вопрос о том, было ли совершено преступление и кем оно совершено. Эти факты, которые устанавливают виновность обвиняемого, которые, таким образом, обвиняемого уличают, называются уликами4 и являются в конечном результате основанием для решения дела. Поэтому во всех тех случаях, когда в деле имеются косвенные доказательства, доказывание заключается в соответствующем оперировании уликами, а именно в установлении фактов, являющихся уликами по делу; в рассмотрении каждого из этих фактов в отдельности и затем всех их в совокупности и взаимной связи и в получении на этой основе определенных выводов по существу данного дела.
Так как уликами являются определенные факты, которые могут в своей совокупности привести к решению вопроса о событии преступления и о виновности обвиняемого, то при доказывании уликами в первую очередь должны быть собраны и рассмотрены все те источники доказательств, которые устанавливают наличие этих фактов.
Следует иметь в виду, что один и тот же источник доказательств может явиться средством установления нескольких улик по делу. Так, если свидетель утверждает, что слышал угрозы обвиняемого по адресу потерпевшего, а затем спустя несколько дней видел обвиняемого выходящим из того дома, где найден был труп потерпевшего, и если показание этого свидетеля после тщательной проверки признают правильным, то тем самым на основе этого показания будет установлено два факта, две улики по делу, именно – угрозы обвиняемого по адресу потерпевшего и нахождение обвиняемого на месте совершения преступления. С другой стороны, – и это гораздо чаще встречается в практике – один и тот же факт, являющийся уликой по делу, устанавливается посредством нескольких одинаковых или же различных источников доказательств; например, враждебные отношения между обвиняемым и потерпевшим могут быть установлены показаниями двух и более свидетелей; нахождение обвиняемого на месте совершения преступления может быть установлено показаниями одного или нескольких свидетелей, а также вещественным доказательством – трубкой, платком или иной вещью, принадлежащей обвиняемому и обнаруженной на месте происшествия и т. д. Такая возможность установления той или иной улики посредством нескольких источников доказательств имеет существенное практическое значение, так как дает возможность следователю и суду в этих случаях прочно обосновать вывод о наличии того факта, который служит уликой по делу. Поэтому, в частности, следователь не должен при установлении определенной улики довольствоваться одним каким-либо источником доказательств (например, показанием одного свидетеля) и обязан, при наличии к тому возможности, собрать и рассмотреть также и другие источники доказательств, чтобы таким путем установить с достоверностью наличие того факта, который будет рассматриваться как улика по данному делу.
Уликами могут служить самые различные факты, определить и указать которые заранее не представляется возможным. Один и тот же факт, который служит уликой по одному делу, может не иметь никакого значения в качестве доказательства в другом деле; например, семейная жизнь обвиняемого и его отношение к жене могут быть серьезной уликой в деле по обвинению данного лица в убийстве жены и будут совершенно безразличны с точки зрения доказывания в деле о краже. Широкий образ жизни обвиняемого и частые вечеринки, им устраиваемые, приобретение ценных вещей могут служить уликой в деле по обвинению в растрате и не иметь никакого значения в деле по обвинению в поджоге из мести и т. д. Поэтому вопрос о том, какие факты имеют значение в качестве улик и должны поэтому быть установлены в деле, каждый раз решается следователем и судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела. При этом необходимо иметь в виду, что улики могут в своей совокупности привести к правильному решению дела только при том условии, что каждая из них будет установлена с достоверностью и наличие факта, рассматриваемого как улика по делу, будет вполне обосновано.
Перед следователем стоит каждый раз задача отыскать и соответствующим образом использовать все те источники доказательств (показания свидетелей, заключение эксперта, вещественные доказательства и др.), посредством которых могут быть установлены факты, являющиеся уликами по данному делу. В зависимости от того, какие будут собраны источники доказательств и как они будут использованы, будет разрешен вопрос о наличии таких улик, которые затем в своей совокупности могут привести к правильному ответу на вопрос о событии преступления и о совершении этого преступления обвиняемым. Так, в деле по обвинению П. в убийстве и ограблении следователь путем допроса двух свидетелей установил, что в ночь совершения преступления обвиняемого видели с каким-то свертком в руках вблизи того места, где затем был найден труп убитого рабочего О. Допросив других свидетелей, работавших вместе с П., следователь установил, что на следующий после убийства день П. рано утром явился в барак, в котором он проживал, в новых брюках и объяснил, что брюки эти он накануне купил на рынке. Показаниями свидетеля – брата убитого О. – было установлено, что брюки эти были на О. в день его исчезновения. При осмотре места происшествия был найден невдалеке от трупа О. карман, оторванный от пиджака; при обыске у П. был найден пиджак, правый карман которого был оторван. Экспертиза дала заключение, что имевшийся на пиджаке карман и оторванный карман, обнаруженный на месте происшествия, сшиты из одного и того же материала и что линия разрыва на пиджаке полностью соответствует краю обнаруженного на месте происшествия кармана. Далее, на пиджаке и кармане, а также на брюках, обнаруженных на П., были пятна крови, по заключению экспертизы – той же группы, что и кровь убитого. Таким путем собранные по делу источники доказательств – показания ряда свидетелей, заключение судебно-медицинской и криминалистической экспертиз и вещественные доказательства – дали возможность установить ряд улик, на основе которых было доказано совершение П. убийства и ограбления рабочего О.
После того как установлены факты, могущие стать уликами по делу, необходимо определить значение каждого из этих фактов. Уликами являются только те факты, которые дают основание предполагать, что между ними и исследуемым преступлением имеется причинная связь, т. е. что каждый данный факт вместе с другими явился причиной совершения преступления, сделал возможным совершение этого преступления либо, напротив, есть следствие того, что преступление было совершено обвиняемым. Так, враждебные отношения между обвиняемым и потерпевшим могут рассматриваться как улика, потому что вражда эта могла побудить обвиняемого совершить убийство; приобретение обвиняемым яда (в деле об отравлении) будет рассматриваться как улика, потому что приобретение яда могло стать средством совершения убийства; наличие у обвиняемого похищенных вещей служит уликой, потому что вещи эти могли быть приобретены обвиняемым в результате совершения преступления и т. д. Поэтому каждый факт, могущий служить уликой по делу, должен быть рассмотрен в свете всех конкретных обстоятельств дела, для того чтобы таким путем решить, насколько обоснованным является предположение о причинной связи данного факта с исследуемым преступлением.
Если, например, в деле об убийстве у обвиняемого или заподозренного лица обнаружены часы убитого, то этот факт сам по себе может дать известные основания предполагать, что часы добыты путем преступления. Но если затем будет установлено, что обвиняемый приобрел часы на рынке, то данный факт теряет всякое значение в качестве улики в отношении этого лица и должен быть исключен из цепи улик по данному делу. В другом случае, когда часы потерпевшего спустя несколько дней после кражи обнаружены у обвиняемого, который утверждает, что приобрел их на рынке, то хотя бы обвиняемый никаких доказательств в подтверждение своего объяснения не представил, объяснение это остается все же правдоподобным, и, следовательно, предположение о том, что часы добыты путем преступления, вызывает серьезные сомнения, а это, в свою очередь, значительно ослабляет силу данной улики. Напротив, если часы обнаружены у обвиняемого непосредственно после того, как кража была совершена, когда по обстоятельствам дела исключается возможность приобретения этих часов путем покупки их у похитителя, то данный факт приобретает значение серьезной улики против обвиняемого. Поэтому анализ каждой улики заключается в рассмотрении ее в свете обстоятельств, ее усиливающих или ослабляющих, либо даже вовсе опровергающих; сами же обстоятельства эти бесконечно разнообразны и целиком определяются конкретной обстановкой каждого отдельного дела.
К числу обстоятельств, которые могут в известной степени усилить имеющиеся в деле улики, относится иногда поведение обвиняемого. Речь идет, конечно, не о таких моментах поведения, как волнение или смущение обвиняемого либо его растерянность во время допроса. Смущение и растерянность может проявить не только виновный, но и лицо, которое непричастно к данному преступлению, однако опасается быть в нем заподозренным. Все такие психологические моменты чрезвычайно неустойчивы и зависят не столько от того, виновно ли данное лицо, сколько от особенностей характера этого лица. Поэтому советская следственная и судебная практика исключает все эти моменты из числа обстоятельств, которые могут рассматриваться как улики по делу.
Не может рассматриваться как улика также молчание обвиняемого, его нежелание объяснить те или иные установленные по делу обстоятельства. Обвиняемый имеет право не давать показания как по делу в целом, так и по отдельным вопросам. В некоторых случаях молчание обвиняемого объясняется его нежеланием скомпрометировать третье лицо указанием фактов, оправдывающих обвиняемого, но в какой-то мере задевающих честь этого третьего лица.
Поведение обвиняемого может служить обстоятельством, усиливающим имеющиеся в деле улики, в частности тогда, когда обвиняемый дает ложные объяснения о тех или иных обстоятельствах дела, например как это имело место в вышеприведенном деле П. относительно обнаруженных у него вещей потерпевшего (см. выше). Такие объяснения обвиняемого, после того как ложность их установлена с бесспорностью, дают иногда основание полагать, что обвиняемый стремится путем лжи опровергнуть имеющуюся против него улику и тем самым избежать ответственности за совершенное им преступление. Подобное же значение могут иметь такие действия обвиняемого, как представление подложных вещественных доказательств, попытки направить расследование по ложному пути и т. п.
Приведем такой пример из практики: муж исчезнувшей Анны Щ., будучи допрошен следователем, показал, что по неизвестным для него причинам жена его уехала из Ростова, где они совместно проживали, в Сочи и Армавир, а оттуда на Дальний Восток. В подтверждение этих своих показаний муж Щ. представил пачку писем, полученных им, по его словам, от жены. Следователь, однако, установил, что Анна Щ. была неграмотна и что письма эти по просьбе мужа Щ. писал его знакомый, после чего муж Щ. передавал эти письма железнодорожным проводникам, которые отправляли их ему почтой из Сочи и из Армавира. Дальнейшим расследованием было установлено, что муж Щ. убил свою жену и труп зарыл под полом в своей комнате.
Как уже указано было выше, уликой является такой факт, который дает основание предполагать, что он находится в причинной связи с исследуемым преступлением. Поэтому каждая улика, взятая в отдельности, приводит только к предположению о том, что преступление имело место и было совершено обвиняемым. Но так как для обвинительного приговора требуются выводы не предположительные, а достоверные, то одна улика сама по себе не может привести к обоснованному, достоверному выводу о виновности обвиняемого, и, следовательно, приговор должен быть всегда основан на совокупности улик. При этом имеется в виду не число улик, не механический их подсчет. Даже большое количество улик, если они не связаны между собой, не может привести к правильному ответу на вопрос о виновности обвиняемого. Для этого необходима совокупность таких улик, которые тесно связаны между собой и взаимно друг друга усиливают и подкрепляют. «Связь косвенных доказательств между собой должна быть такой, чтобы все они являлись звеньями одной цепи; при выпадении одного звена распадается вся цепь, теряет значение улики и каждое отдельное доказательство. Следовательно, налицо должна быть система улик, а не куча улик, разрозненных, не имеющих друг с другом внутренней связи»5. Поэтому, после того как каждая установленная по делу улика рассмотрена в свете всех обстоятельств, ее усиливающих или ослабляющих, необходимо сопоставить все улики друг с другом и с остальными доказательствами, рассмотреть их во всей совокупности и установить их связь между собой.
Так как каждая из установленных в деле улик предполагается связанной с одним и тем же событием – с преступлением, совершенным обвиняемым, то вследствие этого все такие улики должны быть связаны и между собой, должны соответствовать друг другу и находиться в определенном между собой взаимодействии. Если у обвиняемого обнаружена похищенная вещь, то этот факт является уликой, так как дает известные основания предполагать, что обвиняемый завладел вещью путем кражи. Если по делу будет также установлено, что обвиняемый находился вблизи дома потерпевшего, в то время когда кража была совершена, то этот факт также будет уликой, поскольку можно предполагать, что обвиняемый был в указанном месте и использовал свое пребывание для совершения кражи. Таким образом, каждая из указанных улик приводит к одному и тому же предположению – о виновности обвиняемого в совершении кражи, вследствие чего это предположение до известной степени усиливается. Иными словами, предположение о виновности обвиняемого, основанное на первой улике (наличие у обвиняемого похищенной вещи), усиливается второй уликой (пребывание обвиняемого на месте совершения преступления), а предположение, основанное на второй улике, в свою очередь, подкрепляется первой уликой, и, таким образом, в конечном результате возрастает значение и сила обеих улик.
Но наличие в деле даже нескольких улик, взаимно друг друга усиливающих, не всегда достаточно для получения достоверного вывода о том, что преступление имело место и совершено обвиняемым. Так, если в приведенном выше примере окажется, что у обвиняемого обнаружены все похищенные у потерпевшего вещи и притом вещи эти обнаружены непосредственно после того, как была совершена кража, и если появление обвиняемого в доме, где проживает потерпевший, не может быть объяснено какими-либо обстоятельствами, с преступлением не связанными (например, обвиняемый ранее никогда в этом доме не бывал, знакомых там не имеет, приходить в этот дом по личным делам не было никакой надобности и повода), то при этих условиях имеется достаточно оснований признать, что кража совершена обвиняемым. Но возможно и иное: например, у обвиняемого обнаружена одна из похищенных вещей спустя несколько дней после того, как была совершена кража, причем в том доме, где проживает потерпевший, находится учреждение, куда обвиняемый, по его объяснению, явился по делу. И здесь обе указанные улики дают известное основание полагать, что кража совершена обвиняемым, но в то же время улики эти могут быть объяснены иначе, а именно найденная у него вещь могла быть приобретена им на рынке, а появление обвиняемого в доме, где живет потерпевший, может оказаться простым совпадением, вызванным тем, что обвиняемый действительно приходил в учреждение по делу. Совершенно очевидно, что при таком положении вещей вывод о виновности обвиняемого в совершении кражи останется только предположением, будет только более или менее вероятным, а так как осуждение обвиняемого возможно лишь в том случае, когда виновность его установлена с достоверностью, то обвинительный приговор на основе указанных улик не может быть вынесен. Следовательно, дело – при наличии только указанных улик, не может быть передано в суд для рассмотрения по существу, поскольку исход судебного разбирательства в этом случае заранее предрешен, а именно либо дело будет возвращено для дополнительного расследования, либо по делу будет вынесен оправдательный приговор.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе