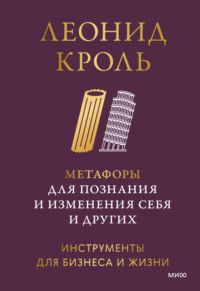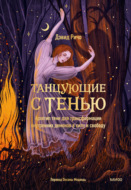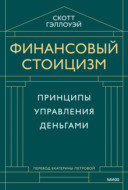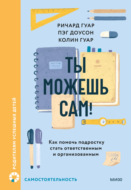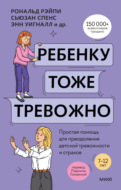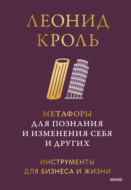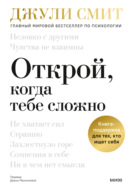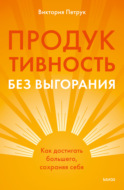Читать книгу: «Метафоры для познания и изменения себя и других. Инструменты для бизнеса и жизни», страница 3
Проблема в том, что, если с ними согласиться, сессия становится монологичной и превращается в сплошную показуху, которой они и сами в итоге не будут довольны.
Если хочется глубины, метафоры все равно нужны, и атаковать ими можно именно эту вечную парадность, декларируемую радость, стремление жить дружно и без негатива. Когда все сияет, сверкает и все друг друга подбадривают – самое время нырнуть с метафорой на обратную сторону и угадать там проявление состояний, которые этим блеском клиент пытается вытеснить и заполировать. Ведь, как бы там ни было, клиент пришел к нам за решением проблемы.
«Мои ключевые полномочия…»
Этот вид сопротивления особенно часто встречается среди официальных лиц, занимающих высокие должности. При этом важно, что официальный язык, канцелярит и длинноты, сложноподчиненные предложения, сдержанность и сугубая сухость могут на самом деле скрывать страх перед собственной брутальностью или, наоборот, беззащитностью.
Человек годами не может себе позволить описывать свои ситуации иным языком, и для него может быть огромным облечением наконец получить такую возможность.
Но до этого приходится прерывать, уточнять, понемногу шутить, чуть-чуть провоцировать, превращать монолог в диалог, а универсальные пресные формулировки – в конкретику и детализацию.
Метафоре быть, но не сразу.
«Я не знаю… Я об этом не задумывался…»
Этот вид сопротивления обычно встречается у людей, которые пришли на сессию будто не совсем по своей воле, например на корпоративном тренинге. Это сопротивление не метафоре, а ситуации как таковой, метафора же – сердце коучинга, и клиент чувствует ее присутствие как вторжение в свой покой. Я не запрашивал решать эти вопросы, это нужно моему начальству, а не мне.
Что ж, справедливо. Все же и тут есть простор для обсуждения, и как раз метафора может помочь. Помню, как на цементном заводе мы обсуждали бегемотов и эльфов – старую гвардию заводчан и пришедших наемных столичных менеджеров. Метафора стала общим полем для обсуждения проблем у людей, которые до этого вообще не могли найти общий язык. У эльфов был язык менеджмента и эффективности, а бегемоты предпочитали вообще не общаться, потому что дело важнее. Конфликта как бы не существовало, потому что не было его общего понимания, – и вместе с тем он определял все существование предприятия.
Не задумывался не значит хочу оставаться глупым, не знаю не значит еще не хочу знать, а сопротивление – это не возражение против сути дела, а страх, что обсуждение будет болезненным. Как только становится ясно, что именно метафора помогает сделать обсуждение терпимым и даже увлекательным, сопротивление уменьшается.
Никто не хочет, чтобы его обслуживали против его воли. Но найти мотивацию к решению проблем, снять настороженность, дать язык для обсуждения помогает метафора.
«Работаю без выходных и отпусков. Расскажите, как работать еще больше и эффективнее и не выгорать»
Формулировка я хочу невозможного – показатель, что клиент собирается уверенно игнорировать реальность своих внутренних состояний. Он пришел, чтобы ему починили себя или переделали его в более совершенную машину.
Разочарования начнутся сразу, и только метафора поможет их избежать и перейти к диалогу со своими внутренними состояниями. Туда не придешь по прямой, придется учитывать рельеф местности: вы можете масштабировать бизнес, но это плеснет бензина в костер вашей тревоги. Прежде чем его масштабировать, нужно наладить диалог с тревогой, а потом уже выходить во внешний план. А точнее, этот выход придет сам.
Как мне планировать еще больше? Настоящий ответ – научиться делать паузы, но он приходит только через метафору. Линейно ответить на этот вопрос нельзя.
Если мы сталкиваемся с сильным сопротивлением клиента, стоит поразмыслить, какие эмоциональные потребности он хочет реализовать в диалоге. Их мы и реконструируем путем метафоры: вы встали на табуреточку, чтобы читать стихи; вы сидите в уголке и грустите; вы заковали себя в броню.
Метафорическое мышление человека развивается не сразу и не самостоятельно. Для маленького ребенка метафоры не существует, есть лишь конкретика и предмет. Далее, поощряемая окружением, мультфильмами и книжками, начинается постепенная метафоризация мира: пустая коробка может стать крепостью или кораблем, палочка – градусником для игры в доктора. Так начинается развитие образного мышления. Ребенку уже не нужны точные копии предметов реального мира. Семилетний ребенок может играть в бал с шахматами или наделять желуди или картофелины разнообразными характерами.
Подростку (тем из них, у кого есть время и охота играть в игры, связанные с воображением) уже не нужны посредники для метафоризации: игры типа DND не нуждаются вообще ни в чем, кроме фантазии. С развитием образного мышления молодежь охотно играет в карты таро или картинки «Имаджинариума». Это стимулирование метафоризации помогает эмоциональному самопознанию и познанию мира, поиску самоопределения, проживанию внутренних ситуаций вовне.
Избыточная социализация мешает употреблению метафор, так как предполагает постоянное использование общего языка для описания событий и переживаний. К сожалению, некоторые из моих клиентов не прожили метафорический этап юности: их игры и развлечения по разным причинам закончились раньше, чем смогла в полную силу развиться способность к генерированию метафор. Такие люди иногда говорят о себе: «Я не творческий человек». Но если только наш мозг еще в принципе способен мыслить, мы можем и выучить новый язык, в том числе доразвить свои метафорические способности. Мы всегда можем вернуться в состояние творческой игры, характерной не столько для детства, сколько для подростковости и юности, в которой одним моим клиентам приходилось бороться за выживание, а другие делали карьеру и добивались раннего успеха.
Можно еще долго говорить о том, что есть метафора и какой она может быть. Но обратимся к более практическому вопросу и поговорим в следующей главе о том, какую роль может играть метафора в коучинговой сессии. Что может этот почти универсальный инструмент? Какие задачи он выполняет? В этом разговоре прояснятся и некоторые типичные особенности терапевтической метафоры в моем понимании. Например, я уже замечал, что метафора не обязана быть точной и что она редко ходит одна. В следующей главе я поясню эти утверждения и приведу примеры.
Глава 2. Метафора как инструмент
Метафора – мой родной язык, но не только мой. Он наш общий родной язык, правда, многие им не пользуются. Начиная пользоваться метафорами, мы рассказываем о внутренних состояниях образно и конкретно, и клиент быстро подхватывает этот способ мышления. Когда человек думает на языке метафор в периоды между сессиями, в обычной жизни, он начинает более живо видеть взаимосвязь явлений, распознавать свои и чужие чувства, увереннее принимать решения, видеть всю поляну, думать мир.
В этой главе мы поговорим о том, что может сделать метафора с мышлением клиента на сессии, какие роли может играть. До известной степени это разделение условно: обычно одна и та же метафора выполняет несколько разных ролей, и, наоборот, цепочка метафор может служить примерно одной и той же цели.
Выделение разных целей использования метафоры, которым мы займемся в этой главе, нужно мне скорее для того, чтобы подчеркнуть функции, которые метафора может выполнять на разных этапах разговора с клиентом.
Сессия в моем методе, который я называю экшен-коучингом, обычно проходит несколько фаз. Конечно, всякий раз не одинаковых: разные клиенты, разные цели, форматы, разный уровень знаний друг о друге. Неизменно одно: я ставлю на первое место не линейное поступательное движение к добыванию истины, не правила и вопросы, а собственные догадки и наброски, которые предлагаю клиенту в виде серии последовательных приближений. В метафорическом коучинге истина не то чтобы не важна – ее необязательно проговаривать, фиксировать и закреплять словами.
Вообще любая истина (в той мере, в какой мы можем о ней говорить применительно к человеческой коммуникации) похожа на нестабильный элемент, он может в чистом виде жить только в колбе, в определенной искусственной среде. В жизни истины формируют ряд устойчивых химических соединений, в которых самого элемента уже нет, а есть как бы его производные и следствия. Например, нет в чистом виде истины вы агрессивны, есть разные проявления агрессии в разных обстоятельствах. Соответственно, и формулировка истин имеет очень малое прикладное значение по сравнению со знанием о том, в какие соединения вступает агрессия, в каких реакциях она себя проявляет, где их хранить, как делать всю эту кухню полезной и не мешающей. Метафора и есть естественная среда, в которой мы можем проделывать все эти химические опыты, не рискуя стать бесполезно абстрактными. Истина доходит до клиента в упаковке метафоры, потому что ровно в такой упаковке она вообще-то и живет.
Развитие метафоры в ходе сессии происходит постепенно и начинается еще до разговора. В кучку складывается все: от фона, на котором сидит клиент, если это онлайн-сессия, до его соцсетей. Мне хочется уловить почерк человека, чтобы как можно раньше начать формировать и корректировать фактуру.
Начиная разговор, я стараюсь, чтобы наша беседа не была похожа ни на один из традиционных форматов, к которым клиент привык. Это не интервью при приеме на работу, не светская беседа, не разговор по душам. Должны все время происходить маленькие сбои, элементы дезавтоматизации, когда своими вопросами прошу отойти от привычного ритма, если его рассказ о себе идет по накатанной.
Я слежу за тем, чтобы не пользоваться ни своими концептами, ни теми, которые предлагает мне клиент. Для формирования метафор правильно, чтобы мне было любопытно, интересно, чтобы я как бы с опаской следовал куда-то в неведомое.
Для этого я стараюсь задавать вопросы, которые требуют конкретных ответов, воспоминаний, чувственных образов. Какой именно вопрос я задаю, не так важно. Вообще в мире нашей сессии точность не так важна, как направление. Важно именно предложение этого нового способа думать.
Конкретика – сырье для метафор. На конкретные вопросы не получится ответить затверженными фразами вроде я сильная женщина, меня драйвит возможность узнавать новое, я бы хотел зарабатывать больше. Так мы сразу убираем ожидания, что будем говорить по сути дела и в контексте рационального мира, и предлагаем клиенту думать образами, картинками, конкретными представлениями.
Длинные монологи клиента нужны мне в начале сессии, чтобы пронаблюдать рельеф и ландшафт его поведения. Какие у него темп, ритм, перепады высот (например, одни клиенты говорят очень правильно и монотонно, другие используют яркие образы, вплоть до обсценной лексики, третьи то воодушевляются и начинают частить, то замирают, и т. д.).
При этом сам клиент уже чувствует, что диалог течет в определенном направлении и что мы не просто говорим о чем-то, а чувствуем и видим вместе, как бы глядим в одно окно.
Может быть, я пока не предлагаю метафор, но слежу за тем, какие метафоры использует клиент (если они есть) и из чего можно было бы их построить. Наводящие вопросы не дают ему уйти в абстрагирование, если он к этому склонен. Чувства, факты, эмоции, воспоминания, впечатления – то, что нам нужно, сырье для метафор. Мы идем по дороге в своем темпе, я наблюдаю, между нами формируется доверие.
Далее может начаться обмен вопросами о жизненных обстоятельствах. Часто это вопросы о семье, картине мира папы и мамы, бабушек и дедушек, об эмоциональном фоне, культурной среде, ярких пиковых впечатлениях или семейных преданиях. Все это дает возможность строить прочные метафоры на историческом фундаменте: «Как ваша бабушка среди войны и дыма все сажала и сажала свой сад, так вы думаете, что можете здесь своим упорным трудом создать нечто плодоносящее». Еще раз повторю, что нам важна не столько истина, сколько гипотезы, которые будят мысль и которые можно корректировать сколько угодно раз.
Цель разговора о прошлом еще и в том, что к такому разговору невозможно быть вполне готовым. Клиент обычно представляет целостную, рациональную картинку того, что происходит с ним сейчас (в семье или на работе). А вот прошлое гораздо более обрывочно, он просто не успел его концептуализировать. Приходится чувствовать и вдумываться по ходу дела, а это уже гораздо полезнее для наших целей.
В какой-то момент по неслышному внутреннему щелчку у меня начинает складываться общее поле, поляна метафор. Я не могу сказать, что к этому моменту все понимаю про клиента. Но формируется некий общий купол ассоциаций, фантазий, возможностей, внутри которого мы можем оперировать. Эти фантазии и образы я начинаю подкидывать клиенту. Сырье для метафор начинает перерабатываться в готовые экспериментальные образцы. Они действуют с разных сторон и с разными целями, какие-то из них будут отброшены, какие-то развиты. Это тот самый момент, когда сильнее всего действуют GPS-метафоры. Смутные представления сами связываются с другими ассоциациями, и возникает эскиз. Если этот эскиз не близок, можно тут же взять соседний: у нас с клиентом нет ни контроля, ни обязательности, ни оценочности. Я не ведущий, а клиент не ведомый: мы вместе нащупываем решение в неопределенности.
Иногда в результате появляется какая-то большая метаметафора, рядом с которой крутятся метафоры-спутники. Иногда мы формируем вереницу разнообразных метафор друг за дружкой, а иногда – вариации, разные метафоры, служащие одной цели. Это похоже на совместную работу в мастерской, когда вместе изготавливаем разные изделия. Примерно треть этих изделий могут быть чрезвычайно удачными и работать потом долго после сессии. В этот момент я одновременно стараюсь успеть за клиентом и его мыслью, с другой стороны (как это ни парадоксально) – стараюсь, чтобы клиент успел за мной, поэтому нужны паузы, чтобы мы успевали сверить восприятие друг друга. (Работа метафорической GPS должна быть без сбоев.) Обсуждение становится все более и более полным, мы обшариваем все поле и подбираем все нити нашего разговора.
К концу этой работы перед клиентом предстают точки его внимания, о которых он говорил вначале, но в другом ракурсе, и еще часть новых, совершенно иных. Иногда возникают инсайты в рамках метафор, которые мы используем. Я могу развернуть эскиз в полноценную картинку, и мы можем ее какое-то время разглядывать, или, наоборот, клиент описывает картинку, а я делаю ее более лаконичной и свожу к эскизу.
Мы получаем представление о состояниях человека и его ролях. Я больше не создаю новых метафор: мы разглядываем уже готовые и можем дополнять их подробностями.
Разумеется, в подобном разговоре неуместно подведение итогов. Это обесценило бы процесс, в котором много такого, что невозможно свести к одной-двум фразам. Нас интересует не сухой остаток, а все, что было в сессии. Очень важно, что метафоры, даже те, которые в ходе сессии пришли и ушли, – это не мимолетные иллюстрации к «главному», к абстрактной истине: они и есть результат, они и есть то, что мы с клиентом выносим из сессии, и то, что будет работать после нее. Конкретика, атмосфера, ассоциации и фантазии – это и есть наша с клиентом совместная продукция.
Итак, посмотрим более пристально, какие задачи выполняет инструмент метафоры и что метафора помогает сделать в нашей совместной с клиентом работе.
Метафора конкретизации
Это первичная функция метафоры: убрать абстрагирование, переформулировать то, что говорит клиент, но без обобщений: наоборот, повышая степень конкретизации. Это как притчи, только без их претензии на мудрость или глубокое значение. Мы просто ставим смыслы на землю и помогаем им начать лучше отражать реальность.
К. Я считаю, что все люди взрослые, адекватные, они спокойно понимают обычный человеческий язык, без ора, без крика, без всяких этих вещей. Но как показала практика, есть люди, которые так не понимают. Может быть, я боюсь объяснить по-другому. Я не знаю, как меня расколдовать.
Я. Слово расколдовать помогает мне сразу начать говорить метафорами: вы принцесса на горошине. Как только в общении возникает минимальное чувство неловкости, вы должны убрать горошину, а не делать вид, что все в порядке.
Вот еще примеры моих метафор конкретизации.
Я. Важно, чтобы вы спохватывались до того, как вас начало от этого тошнить, условно говоря, не после десерта, а хотя бы после второго блюда. Конечно, вы, как хорошая девочка, должны все это съесть. Тарелки любят чистоту. Но тогда вас будет тошнить.
Тошнить – внятная и сильная метафора, это гораздо лучше, чем просто терпеть. В эту метафору заложена и социальная функция еды (тебя кормят, а ты должен есть да нахваливать), и тема власти и подчинения, и тема складывания ненужного внутрь себя, в ущерб своим потребностям, и важнейшая тема чистоты. Предельно конкретно поговорили сразу очень о многом, что есть или было в реальности клиентки, и все это было гораздо более понятно, чем если бы мы пустились в рассуждения.
Я. Она просто ведьма, ничего личного. Она ведьма, она вылетает на метле.
Яркий и четкий образ, который может стать ходячей монетой. С ним можно и не согласиться, но невозможно просто так отмахнуться.
Я. Вы как бы завернуты в несколько слоев бумаги. Вам хочется освободиться, но одни слои разворачиваются, а другие вы сами заворачиваете.
Хорошо видно и ощущается, каким образом с клиентом что-то происходит. Гораздо понятнее и вызывает куда меньше вопросов, чем приблизительное описание происходящего в жизни клиента с правилами и регламентами, условностями и социальными требованиями и т. д.
Но не будем считать, что нам обязательно нужно попадать в точку. Контекстная метафора ценна не сама по себе, а как затворы дверцы, за которой условная метафорическая страна чудес, вход в язык метафоры.
Многие клиенты настолько давно не говорили на этом языке, что чувство облегчения возникает почти сразу, и они тут же подхватывают метафору. Другие – нет, но узнавание самого языка возникает практически у всех, и далее можно говорить о чем угодно.
Все, главное дело сделано: мы вышли из плоского двумерного мира сухого рационального описания с договорной терминологией, и теперь наше внимание устроено по-другому, мы получили новые возможности, оттенки, включили другие измерения.
Ситуация приобретает запахи, вкус, цвет, они иначе слышатся и по-другому воспринимаются, а значит, и спектр решений будет не в рациональном плане.
Собственно, это единственный шанс найти что-то новое вне уже известной нам терминологии – подобным образом обращаться с понятиями.
Метафора, снимающая оценку
Разговор о внутреннем часто заставляет смотреть на себя со стороны, включает социальную оптику, порождает излишние оценки. Ведь все это – наша внутренняя жизнь – глубоко, интимно, а поэтому неприлично, стыдно.
Но наша цель как раз в том, чтобы оценочность убрать. Метафора помогает облегчить этот процесс.
Она не навешивает ярлыки: можно всегда выбрать симпатичный пример, который не будет пугать или вгонять в краску. Речь идет уже не о тревожности или неуверенности, недоверчивости или беспомощности, а о каких-то частях личности человека, которые ведут себя определенным образом внутри метафорической логики. Не ты слабак, а твоя внутренняя мышь. Не ты разбрасываешься, а обезьянка внутри кривляется и скачет по деревьям.
Чувствовать себя героем басни или сказки может быть обидно, а всем «Квартетом» или и Вороной, и Лисицей сразу – совсем не обидно и в чем-то забавно.
Есть вещи, о которых вообще невозможно говорить на абстрактном языке, не рискуя. Многие патологизируют внутреннюю беспричинную жизнь эмоций, потому что для нее, особенно в последнее время, используется по преимуществу медицинская терминология. Серая зона, в которой дело не доходит до депрессии, расстройства аутистического спектра или созависимости, никак не освещена и не концептуализирована. С одной стороны, это хорошо, потому что позволяет сразу говорить о чувствах, с другой – люди самостоятельно нередко вообще никак себе не мыслят эту внутреннюю жизнь эмоций.
Что ж, поговорим о Синей Бороде или Шерлоке Холмсе, если речь заходит о чрезмерной подозрительности (паранойечке), а разговор о нерезких, но явных циклически устроенных сменах настроения раскроем через сказку о Золушке и персонажах-состояниях этой сказки.
Сопротивления не возникает совсем или оно минимально.
«У вас есть несколько кругов, и в каждом нужно назвать пароль». Это не паранойя, никто не втыкает шприц с аминазином, это нормальная подозрительность. Норма разнообразна, и рисуется она живописно, необидно, узнаваемо.
Это приятно не потому, что льстит, а потому, что бесплатно нарисованный портрет приятен 80 % людей, даже если он не совсем похож.
Намного проще принять дружеский шарж, чем торжественно и всерьез признать себя обладателем качества, которое не нравится тебе в других.
Но ведь это и неправда. В других то же самое качество и в самом деле выглядит иначе. Пусть другой будет кем угодно, а Шерлок Холмс – это я.
«Вулкан должен извергаться, все должно быть в пепле, а потом можно уже это все кропотливо убирать. Но если нет вулканического взбрыка и нет пепла – и убирать непонятно что. Есть такой дар страстей, значит, надо его проживать».
Я настроен на человека, а не концептуализирую психопатию. В мире метафоры нам не так уж интересны нормы. Если Рильке мог слиться с оливковым деревом и стать с ним единым целым, нам неинтересно, что это за психический феномен, но интересны его плоды (стихи, не маслины).
Самые чувствительные к оценкам люди расслабляются, когда перед ними метафора. Вот мой старый и любимый пример: представьте, что у вас есть бальная книжечка, куда вы записываете: в 17:30 на меня косо посмотрел N, в 22:00 я позавидовала B – такой гербарий нарциссизма.
Этот образ был узнаваемым для клиента, забавным и необидным, он перенес ужасный нарциссизм из современного патологизирующего контекста куда-то в мир балов и ярмарок тщеславия. Таким образом, у нас не тщеславие, обидчивость, зависть, а маленькие элементы, которые могут быть забавны и которые не страшно в себе увидеть.
Метафора и эмоции
Повышая экспрессивность речи, метафора не просто помогает выражать эмоции, она прежде всего делает их видимыми для самого человека.
Хорошо, если мы сперва чувствуем эмоции сами и уж потом – передаем их собеседнику. Иначе мы выражаем что-то вовне, но можем вообще не признавать это своим. «Кто обиделся?! Я?! Я вообще никогда не обижаюсь!» («Кто пукнул? Я не пукал. Я никогда…» Простите за грубоватое сравнение.)
Изменение речевых привычек здесь становится катализатором другого отношения к самому себе и осознания собственной внутренней жизни.
Обычный общий язык концептов, наоборот, повышает алекситимичность человека.
Это очень интересно устроено. Вообще-то интеллектуализация никак не связана с низкой эмоциональностью или с необходимостью (а также желанием) прятать эмоции; высокий интеллект и склонность к рациональному и логическому мышлению могут сочетаться со способностью мыслить образно. Формально нет никаких препятствий такому сочетанию.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе