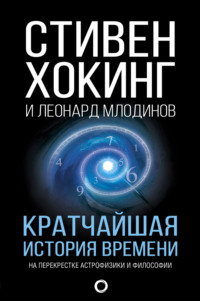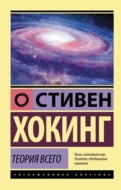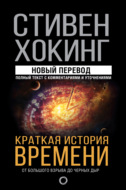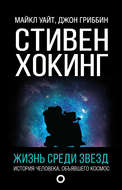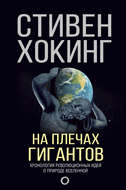Читать книгу: «Кратчайшая история времени», страница 2
Глава 3
Природа научной теории
Прежде чем рассуждать о природе Вселенной и отвечать на вопросы о том, было ли у нее начало и есть ли конец, следует сформировать четкое представление, что такое научные теории. Будем придерживаться простого взгляда на теорию – как на модель Вселенной или какой-либо ее части в совокупности с набором правил, связывающих параметры этой модели с нашими наблюдениями. Она существует только в нашем сознании и никак иначе реально не существует (что бы это ни значило). Теория считается хорошей, если она удовлетворяет двум требованиям. Во-первых, она должна правильно описывать большой класс наблюдений на основе модели с небольшим числом произвольных элементов, и во-вторых, она должна позволять с достаточной определенностью предсказывать результаты будущих наблюдений. Например, Аристотель верил в теорию Эмпедокла, согласно которой все в мире состоит из четырех стихий: земли, воздуха, огня и воды. Это была довольно простая теория, но она не позволяла делать какие-либо точные предсказания. С другой стороны, теория тяготения Ньютона была основана на еще более простой модели, в которой тела притягиваются друг другу с силой, пропорциональной величине, которые он назвал массой, и обратно пропорциональной квадрату расстояния между телами. И при этом теория Ньютона позволяет с очень высокой точностью предсказывать движение Солнца, Луны и планет.
Любая физическая теория по природе своей временная в том смысле, что это всего лишь гипотеза, которую невозможно доказать. Сколько бы экспериментов ни подтверждали эту теорию, никогда нельзя быть уверенным, что очередной результат не будет ей противоречить. С другой стороны, для опровержения теории достаточно единственного наблюдения, результаты которого противоречат ее предсказаниям. Как отметил философ науки Карл Поппер, хорошая теория та, что позволяет делать множество предсказаний, которые в принципе могут быть опровергнуты или, как это называет Поппер, фальсифицированы наблюдением. С каждым новым экспериментом, результаты которого согласуются с предсказаниями теории, степень нашего доверия к ней повышается, а сама теория укрепляется. Однако первое же противоречащее теории наблюдение является основанием отвергнуть или существенным образом изменить ее.
Во всяком случае, так должно быть в идеале, хотя, конечно, всегда можно поставить под сомнение квалификацию наблюдателя или экспериментатора.
На практике новая теория часто представляет собой расширение предыдущей. Например, очень точные наблюдения планеты Меркурий выявили небольшие расхождения между наблюдаемым движением и предсказаниями ньютоновской теории тяготения. Движение планеты, рассчитанное согласно эйнштейновской общей теории относительности, слегка отличалось от того, что предсказывала ньютоновская теория. Согласие предсказанного теорией Эйнштейна движения Меркурия с наблюдениями при отсутствии такого согласия для ньютоновской теории стало одним из ключевых подтверждений новой теории. Тем не менее мы до сих пор продолжаем пользоваться ньютоновской теорией для большинства практических задач, потому что в ситуациях, с которыми нам обычно приходится сталкиваться, ее предсказания отличаются от предсказаний общей теории относительности очень незначительно. (К тому же ньютоновская теория гораздо проще теории Эйнштейна!)
Конечная цель науки состоит в создании единой теории для описания всей Вселенной. Но в реальности подход большинства ученых сводится к разделению проблемы на две части. Во-первых, есть законы, управляющие тем, как Вселенная меняется со временем. (Если мы знаем состояние Вселенной в определенный момент времени, то такие физические законы позволяют нам определить, как она будет выглядеть в любой другой момент.) Второй вопрос – это начальное состояние Вселенной. Некоторые считают, что наука должна заниматься только первой проблемой, а вопрос о начальном состоянии скорее относится к компетенции метафизики или религии. Они считают, что Бог, будучи всемогущим, мог создать Вселенную любым желаемым образом. Может быть, это и так, но тогда Бог мог также заставить Вселенную развиваться совершенно произвольным образом. Однако похоже, что Богу было угодно, чтобы Вселенная развивалась в соответствии с четко определенными законами. И поэтому представляется вполне разумно предположить, что начальное состояние Вселенной тоже подчинялось четко определенным законам.
Создать теорию, сразу описывающую всю Вселенную, оказалось очень трудным делом. Вместо этого ученые разделили проблему на множество частей и построили множество частных теорий. Каждая из этих частных теорий описывает и предсказывает определенный ограниченный класс наблюдений, пренебрегая влиянием других факторов, или представляя их в виде простых наборов чисел. Вполне возможно, что этот подход в корне неверен. Если во Вселенной все фундаментальным образом взаимозависимо, то получить полное решение, исследуя проблему по частям в отрыве от целого, конечно же, невозможно. Тем не менее до сих пор этот подход обеспечивал прогресс науки. Опять классическим примером может служить теория тяготения Ньютона, согласно которой сила взаимного притяжения тел зависит только от присущей каждому из тел числовой характеристики – его массы – и совершенно не зависит от того, из чего же состоят эти тела. Таким образом, орбиты планет можно рассчитывать, не вдаваясь в подробности их структуры и внутреннего строения2.

От атомов до галактик. В первой половине XX века физики, строя предположения об устройстве мира, попытались охватить не только привычный мир Исаака Ньютона: появились теории, описывающие предельно большие и предельно малые объекты.
Сейчас для описания Вселенной используют две фундаментальные частные теории – общую теорию относительности и квантовую механику. Это два великих интеллектуальных достижения первой половины XX века. Общая теория относительности описывает силу тяжести и крупномасштабную структуру Вселенной, то есть ее строение на масштабах от нескольких километров до миллиона миллиона миллиона миллионов (единица с двадцатью четырьмя нулями) километров – размера наблюдаемой Вселенной. С другой стороны, квантовая механика имеет дело с явлениями на чрезвычайно малых масштабах, такими как миллионная часть миллионной доли сантиметра. Но, к сожалению, эти две теории, как известно, несовместимы друг с другом и поэтому не могут обе быть правильными. Одним из главных направлений исследований в физике сегодня и главной темой этой книги является разработка новой теории, которая бы объединила в себе оба частных случая – квантовую теорию гравитации. Такой теории пока еще нет, и быть может, мы все еще далеки от ее создания, но нам уже известны многие из свойств, которыми она должна обладать. И как будет видно в последующих главах, мы уже знаем довольно много неизбежных предсказаний квантовой теории гравитации.
Так что если считать, что Вселенная устроена не произвольным образом, а подчиняется определенным законам, необходимо будет в конце концов объединить частные теории в одну всеобъемлющую теорию, которая сможет описать все во Вселенной. Но поиск такой полной единой теории связан с фундаментальным парадоксом. Описанное выше представление о научных теориях предполагает, что мы являемся разумными существами, которые свободны наблюдать Вселенную желаемым образом и делать логические выводы из увиденного. В такой схеме есть основания полагать, что мы можем продвигаться все ближе к законам, которым подчиняется наша Вселенная. Но если бы полная объединенная теория действительно существовала, то она, скорее всего, также определяла бы и сами наши действия, то есть в том числе и результат нашего поиска! И почему же из нее должно следовать, что мы на основании полученных данных придем к правильным выводам? А не будет ли из теории следовать, что мы придем к ошибочным выводам? Или вообще не получим никаких выводов?
Единственный способ решить эту проблему основан на дарвиновском принципе естественного отбора. Идея заключается в том, что особи в любой популяции самовоспроизводящихся организмов будут неизбежно различаться по своему генетическому материалу и воспитанию. А это значит, что некоторые особи смогут лучше, чем другие, делать правильные выводы об окружающем их мире и действовать соответствующим образом. Они будут с большей вероятностью выживать и воспроизводиться, поэтому их образ поведения и мысли станут преобладающими. Конечно, в прошлом интеллект и научные открытия не один раз становились преимуществом для выживания. Не совсем ясно, так ли это до сих пор: ведь наши научные открытия вполне могут полностью уничтожить всех нас, и даже если этого не произойдет, всеобъемлющая единая теория может и не играть особо важной роли для наших шансов на выживание. Однако если Вселенная эволюционирует закономерным образом, то можно ожидать, что данные нам естественным отбором разумные способности также проявятся в нашем поиске всеобъемлющей единой теории и поэтому не приведут нас к неправильным выводам.
Поскольку уже имеющихся частных теорий достаточно для точных предсказаний во всех ситуациях, кроме самых экстремальных, поиск окончательной теории Вселенной трудно обосновать чисто практическими соображениями. (Заметим, однако, что аналогичные доводы можно было высказать и в отношении теории относительности и квантовой механики, а ведь благодаря этим теориям мы овладели ядерной энергией и совершили революцию в микроэлектронике.) Так что от построения полной единой теории особого проку для выживания нас как вида может и не быть, да и на нашем образе жизни это может никак не сказаться. Но уже на заре цивилизации люди не хотели довольствоваться восприятием мира как набора несвязанных и необъяснимых событий и явлений. Мы стремились к пониманию лежащего в основе мироздания порядка. И сегодня нам хочется понять, почему мы здесь и откуда мы родом. Искреннее стремление человечества к знаниям – достаточное оправдание для продолжения поисков. И наша цель – описать Вселенную, в которой мы живем, от начала и до конца. Не больше и не меньше.
Глава 4
Вселенная Ньютона
Современные представления о движении тел восходят к Галилею и Ньютону. До них люди верили Аристотелю, который сказал, что естественным состоянием тела должно быть состояние покоя и что тело движется, только если принуждается к этому силой или импульсом. Из этого следовало, что более тяжелое тело должно падать быстрее, чем легкое, потому оно испытывает более сильное притяжение, которое влечет его к Земле. Кроме того, в аристотелевской традиции считалось, что все управляющие Вселенной законы можно получить чисто умозрительным путем без обращения к наблюдениям. Так, в частности, никто до Галилея не счел нужным проверить, действительно ли тела разного веса падают с разной скоростью. Говорят, что Галилей доказал ложность системы Аристотеля, бросая предметы различного веса с наклонной Пизанской башни в Италии. На самом деле все было, скорее всего, не так, но Галилей проделал другой, эквивалентный эксперимент: он пускал шары разного веса по ровной наклонной поверхности. Ситуация при этом аналогична той, когда тяжелые тела падают вертикально, но движение по наклонной поверхности проще наблюдать из-за меньших скоростей. Измерения Галилея показали, что скорость любого тела увеличивается с постоянным темпом независимо от веса. Например, если вы отпустите мяч на наклонной плоскости с уклоном в один метр на каждые десять метров, то через одну секунду мяч будет двигаться вниз по склону со скоростью около одного метра в секунду, через две секунды – со скоростью два метра в секунду и т. д. Конечно, свинцовый груз падает быстрее, чем перо, но это только потому, что перо тормозится сопротивлением воздуха. Если вы сбросите два тела, которые не испытывают большого сопротивления воздуха, например два разных свинцовых груза, то они будут падать с одинаковой скоростью. (Мы вскоре поймем, почему.) На Луне, где нет тормозящего движение воздуха, астронавт Дэвид Р. Скотт выполнил эксперимент с пером и свинцовым грузом и обнаружил, что они действительно достигли поверхности одновременно.
Ньютон использовал измерения Галилея в качестве основы своих законов движения. В опытах Галилея, когда тело скатывалось вниз по наклонной плоскости, на него всегда воздействовала одна и та же сила (его вес), результатом чего было постоянное ускорение тела. Отсюда следовало, что в реальности воздействие силы на тело всегда приводит к изменению скорости его движения, а не просто к его перемещению, как считалось ранее. Это также означало, что всякий раз, когда на тело не воздействует какая-либо сила, оно продолжит двигаться по прямой с постоянной скоростью. Эта идея была впервые явно сформулирована в 1687 году в «Математических началах» Ньютона и известна как первый закон Ньютона. То, что происходит с телом, когда на него действует сила, определяется вторым законом Ньютона, который гласит, что тело ускоряется (т. е. его скорость изменяется) со скоростью, пропорциональной приложенной силе. (Например, в два раза большая сила приводит к два раза большему ускорению.) Ускорение тем меньше, чем больше масса (или количество материи) тела. (То же самое усилие, действующее на тело в два раза большей массы, произведет в два раза меньшее ускорение.) Привычный пример – это автомобиль: чем мощнее двигатель, тем больше ускорение, но чем тяжелее автомобиль, тем меньше ускорение при том же двигателе.
Теория тяготения Ньютона дополняет законы движения, описывающие, как тела реагируют на приложенные к ним силы, правилом определения величины конкретного вида силы – силы тяжести. Как мы уже говорили, эта теория постулирует, что каждое тело притягивает любое другое тело с силой, пропорциональной массам обоих тел. Таким образом, сила взаимного притяжения двух тел удвоится, если удвоить массу одного из тел (например, тела А). Это вполне ожидаемо, потому что тело А можно представить состоящим из двух тел исходной массы. Каждое из этих тел должно притягивать тело B с первоначальной силой и таким образом, что общая сила притяжения тел А и В будет в два раза больше первоначальной силы. И если масса одного из тел в шесть раз больше первоначальной массы или, например, масса первого тела в два раза, а масса второго тела – в три раза больше соответствующей первоначальной массы, то сила взаимного притяжения окажется в шесть раз больше первоначальной.

Гравитационное притяжение между телами. Если масса тела удваивается, удваивается и гравитационная сила.
Теперь понятно, почему все тела падают с одинаковой скоростью. Согласно закону тяготения Ньютона тело, весящее в два раза больше, испытывает в два раза большую силу тяготения. Но его масса в два раза больше, и следовательно, согласно второму закону Ньютона величина приобретаемого ускорения на единицу силы в два раза меньше. Согласно законам Ньютона эти два эффекта в точности компенсируют друг друга, и поэтому ускорение будет одинаковым независимо от веса.
Закон тяготения Ньютона также гласит, что чем дальше друг от друга тела, тем меньше сила их взаимного притяжения. Согласно этому закону сила тяготения звезды на заданном расстоянии от нее составляет одну четверть силы тяготения такой же звезды на вдвое меньшем расстоянии. Этот закон очень точно предсказывает орбиты Земли, Луны и планет. Если бы сила притяжения звезды уменьшалась с расстоянием медленнее или быстрее, чем это предсказывает закон всемирного тяготения Ньютона, то орбиты планет не были бы эллиптическими. Планеты бы двигались по спирали, приближаясь к Солнцу или удаляясь от него.
Существенное отличие между идеями Аристотеля с одной стороны и Галилея и Ньютона с другой состоит в том, что Аристотель считал естественным и предпочтительным состояние покоя – именно в нем должно находиться любое тело, не возмущаемое какой-либо силой или импульсом. В частности, Аристотель считал, что Земля находится в состоянии покоя. Но из законов Ньютона следует, что единого стандарта покоя не существует. Можно с одинаковым основанием сказать, что тело А находится в состоянии покоя, а тело В движется с постоянной скоростью относительно тела А, или же что тело В находится в состоянии покоя, а движется тело А. Например, если пока что пренебречь вращением Земли и ее движением по орбите вокруг Солнца, то можно считать, что Земля находится в состоянии покоя, а поезд на ее поверхности движется на север со скоростью сто пятьдесят километров в час, но можно также считать поезд находящимся в состоянии покоя, а Землю движущейся на юг со скоростью сто пятьдесят километров в час. При проведении опытов с движущимися телами в поезде все законы Ньютона тоже выполняются. Так кто же прав – Ньютон или Аристотель – и почему?
Один из способов проверить это состоит в следующем. Представьте себе, что вы находитесь внутри большого ящика и не знаете, расположен ли он на полу движущегося поезда или на земле, которая в представлении Аристотеля является стандартом покоя. Можно ли как-то различить эти два случая? Если да, то, может быть, Аристотель был прав и в состоянии покоя относительно Земли есть что-то особенное. Но если проделать соответствующие опыты в ящике, расположенном в поезде, то результаты окажутся в точности таким же, как если их выполнить на «неподвижной» платформе (при условии, что ход поезда ровный, без рывков, поворотов и т. д.). Если сыграть в настольный теннис на поезде, то окажется, что мячик ведет себя точно так же, как при игре в пинг-понг на столе, стоящем на земле рядом с путями. И если вы решите сыграть в ящике, движущемся относительно Земли с нулевой скоростью или со скоростью 80 или 150 километров в час, то во всех трех случаях мячик будет вести себя совершенно одинаково. Так устроен мир, и это отражает математика законов Ньютона: нет способа узнать, движется поезд или Земля. Понятие движения имеет смысл, только если рассматривать его относительно других объектов.
Имеет ли вообще значение, кто был прав – Аристотель или Ньютон? Можно ли считать это всего лишь разницей в мировоззрении и философии или это вопрос, важный для науки? На самом деле отсутствие абсолютного стандарта покоя имеет глубокие физические последствия: оно означает, что если два события происходили в разное время, то невозможно определить, происходили ли они в одном месте в пространстве.
Чтобы нагляднее продемонстрировать это, попрошу вас представить себе, что в несущемся на огромной скорости поезде человек играет в пинг-понг и ударяет по мячику ракеткой в одном и том же месте дважды в секунду. Для этого человека пространственное расстояние между первым и вторым отскоками будет равно нулю. А для наблюдателя, стоящего рядом с железнодорожной колеей, расстояние между двумя отскоками составит около 40 метров, потому что именно это расстояние поезд пройдет за соответствующее время. Согласно Ньютону, оба наблюдателя с одинаковым основанием вправе считать себя находящимися в состоянии покоя, и поэтому обе точки зрения одинаково приемлемы. В отличие от того, что считал Аристотель, ни одна из точек зрения и ни один из двух из наблюдателей не имеет преимущества перед другим. Наблюдаемые положения событий и расстояние между ними будут разными для человека, едущего в поезде, и наблюдателя, стоящего рядом с железнодорожными путями, и при этом нет никаких оснований предпочесть наблюдение одного наблюдению другого.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе