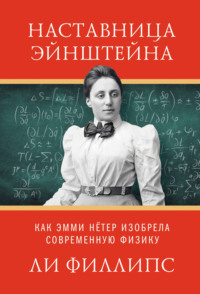Читать книгу: «Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику», страница 3
После этого головокружительного семестра в Гёттингене Нётер вернулась домой. Закон, наконец, изменился, и женщины получили право наравне с мужчинами поступать в университеты и получать ученые степени. Весной 1904 года Нётер официально поступила в Университет Эрлангена, чтобы изучать математику40. Эрланген делился на «факультеты»; математику преподавали на Втором отделении философского факультета. Когда Нётер поступила туда, на факультете обучалось 46 студентов мужского пола – и одна она. Единственные ее товарки обучались на медицинском факультете, где среди 159 студентов-мужчин были три полноправные студентки и две вольнослушательницы.
Ее отец Макс вместе с еще одним видным математиком, Паулем Горданом, вел основные курсы на отделении математики. Эмми и ее брат Фриц, изучавший математику и физику, часто посещали лекции своего отца.
Гордан был одним из экспертов мирового уровня по тому, что называлось теорией инвариантов. Под его руководством Эмми Нётер начала активно изучать этот предмет, и в декабре 1907 года получила степень PhD, summa cum laude4142, за посвященную ему диссертацию.
* * *
В следующих двух главах будут изложены предпосылки появления теоремы Нётер и описаны как внешние обстоятельства, так и подготовительная работа, проделанная ею перед тем, как она совершила революционное открытие в области физики. Основное направление этой подготовительной работы Нётер связано с эволюцией ее математического стиля и подходов; этот путь начинается с обучения у Гордана, и первой вехой на нем стала ее диссертация. Гордан был прекрасно известен своим в высшей степени обстоятельным, вычислительным методом проведения математических изысканий. Его статьи зачастую состояли из длиннейших рядов уравнений без каких-либо текстуальных пояснений. Нётер усвоила подход своего научного руководителя, и ее диссертация – ярчайший пример подобного стиля. Для исследователей нет ничего удивительного в том, чтобы в начале карьеры перенимать подходы своих наставников, – даже для тех исследователей, кого, как Нётер, оригинальность мышления вскоре увлечет на совсем иной путь.
Однако в случае Эмми Нётер эти расхождения оказались резко выраженными. Много времени спустя Герман Вейль будет оглядываться на карьеру Нётер: «Трудно представить себе бо́льший контраст, чем тот, который существует между ее первой работой – диссертацией – и работами, выполненными в пору профессиональной зрелости: первая являет собой яркий пример формальных вычислений, вторая – не менее яркий и впечатляющий пример аксиоматического мышления в терминах абстрактных понятий в математике»43.
Скорее всего, Нётер бы с ним согласилась. Вступив в более зрелую фазу своего творческого пути, она стала нетерпимой к любым упоминаниям об этой диссертации и называла ее «бредятиной» – а подчас и более крепким словом.
Различие в подходах к математике или стилях математического мышления, о котором говорит Вейль, усугубленное бранью Нётер, – это различие между наглядными, подчас трудоемкими вычислениями и работой на более высоком концептуальном уровне, характеризуемом размышлениями о структуре, скрывающейся за задачей. Во втором случае математик иногда доказывает нечто, касающееся природы, скажем, решений уравнения (существуют ли они? бесконечно или конечно число таких решений?), может быть, даже не пытаясь выстроить хотя бы одно из этих решений.
Альберт Эйнштейн
Сегодня множество историков и популяризаторов науки называют 1905 год «годом чудес» Эйнштейна (а кое-кто предпочитает щегольнуть латинским выражением: annus mirabilis). В том году 26-летний Эйнштейн опубликовал пять статей. Каждая из них была блестящей; некоторые – навсегда изменили ход человеческой мысли. Одна из этих работ принесла ему Нобелевскую премию: то был расчет, ознаменовавший рождение квантовой механики. Из другой статьи 1905 года мы узнали о том самом физическом уравнении, которое известно каждому: E = mc2 (хотя изначально оно появилось в несколько иной форме). Среди этих пяти статей была та, что положила начало специальной теории относительности; сформулированные в ней идеи в популярном изложении на десятилетия превратятся в тему бесед на коктейльных вечеринках и породят бесчисленное множество набросков поездов, нацарапанных на бумажных салфетках. Благодаря еще одной из этих пяти статей Эйнштейн получит докторскую степень (по физике) за два года до того, как Эмми Нётер свою – в области математики.
Всего этого Эйнштейн добился, работая в патентном бюро в швейцарском городе Берне. Его задачей была оценка патентных заявок. Работа ему нравилась, поскольку была до известной степени занимательной, не требовала особых усилий, приносила неплохой доход и оставляла много времени для размышлений о физике. Он шутил, что его рабочий стол в бюро, набитый теоретическими вычислениями, представлял собой «физический факультет». Преподавать ему не особенно нравилось.
Хотя Эйнштейн и был доволен своей работой в патентном бюро, нам нужно спросить: а что он там делал? По окончании университета, в 1900 году, он оказался единственным студентом-физиком, не получившим должности ассистента. В течение года он оставался без работы и безуспешно искал себе место в различных университетах. Вполне вероятно, проблема Эйнштейна состояла в том, что он попросту обижал своих наставников. Он пропускал много занятий, предпочитая заниматься самостоятельно. Он сам решал, какие занятия слишком скучны или бесполезны, чтобы тратить на них время. Хоть сколько-нибудь мнительные преподаватели обычно легко вызывают чувство неприязни у слишком умных и не считающихся с их мудростью студентов. А молодой Эйнштейн был в целом не слишком дипломатичен.
После года безработицы, в течение которого он зависел от материальной поддержки не слишком состоятельных родителей, Эйнштейн наконец получил место школьного учителя, а также стал давать частные уроки44. Работа понравилась ему гораздо больше, чем он ожидал, в особенности потому, что обе должности оставляли ему достаточно свободного времени и энергии, чтобы работать над физическими проблемами. Год проработав учителем, он с помощью друга и товарища по университету Марселя Гроссмана нашел место в патентном бюро (как станет ясно ниже, Гроссман оказал ему кое-какую еще более ценную помощь). Эта работа была более надежной (работа в школе была временной) и подходила ему даже еще больше. По сути, проведенные в патентном бюро дни были одними из самых счастливых в его жизни.
Хотя во время жизни в Берне Эйнштейн проделал огромную прорывную работу в потрясающе разнообразных областях науки, то, что имеет прямое отношение к нашей истории – это его работа над тем, что мы сегодня называем специальной теорией относительности.45
Я не стану подробно излагать содержание этой теории, так как существует множество великолепных книг и статей, в которых это сделано, и наша история этого не требует. Однако нам понадобится сделать краткий обзор и, в особенности, понять одну конкретную точку зрения на эту теорию. Этот аспект специальной теории относительности не затрагивается в большинстве упрощенных или научно-популярных ее изложений. Он тесно связан с теорией инвариантов, предметом докторской диссертации Эмми Нётер. В тот момент, когда вышла статья Эйнштейна, Нётер была погружена в теорию инвариантов.
Во-первых, почему теорию Эйнштейна называют теорией относительности? Она касается того, как описывать вещи с разных позиций – или относительно разных точек зрения. В этом случае точки зрения являются различными системами отсчета. Под этим термином имеются в виду просто совокупности обстоятельств, двигающиеся с какой-то постоянной скоростью, то есть в неизменном темпе и в каком-то конкретном, неизменном направлении. Если вы находитесь в поезде, плавно движущемся вперед с постоянной скоростью, а я стою на платформе, то мы находимся в разных системах отсчета того типа, который рассматривается в этой теории. Первую теорию относительности Эйнштейна назвали специальной в противовес той, что была сформулирована позднее. Общая теория относительности является, скажем так, более общей: в ней рассматриваются системы отсчета, движущиеся в любых направлениях.
Первая четко сформулированная теория относительности была изложена Галилеем, и сегодня мы называем ее принципом относительности Галилея. Согласно этому принципу, я, стоящий на платформе, буду считать, что вы движетесь (например) направо со скоростью поезда, а вы – считать, что я движусь налево с той же скоростью. Если вы бросите мяч в направлении головного вагона поезда, то я увижу, как к скорости поезда прибавилась скорость, приданная вами мячу. Другой пример – это траволаторы, которые мы сегодня привыкли видеть в аэропортах. Когда вы идете по нему со своей обычной скоростью, то, взглянув в сторону, заметите, что окружающие предметы движутся, возможно, быстрее, чем вы привыкли; скорость, с которой они движутся, это скорость ленты плюс скорость, с которой идете вы.
Принцип относительности Галилея – это инстинктивно понятная теория относительности, в которую мы, обычно сами того не сознавая, верим, если и покуда не записываемся на курс физики и в результате обучения не утрачиваем свои инстинкты. Очевидно, что она верна. Эту теорию относительности, просуществовавшую более 300 лет, унаследовал Эйнштейн, доказавший, что она не может быть верна, если верны некоторые другие ставшие нам известными вещи.
Опустим доказательства и перейдем к некоторым следствиям. Однако вкратце отметим, что фундаментальная и безусловная истина, с помощью которой Эйнштейн доказал, что принцип относительности Галилея следует заменить, такова: в вакууме свет обладает одной скоростью, и эта скорость одинакова для всех вне зависимости от того, из какой системы отсчета она измеряется. Это означает, что если, шагая по траволатору в аэропорту, вы достанете фонарик и включите его, направив прямо от себя, то узнаете (при наличии подходящего оборудования), что свет движется от вас с этой универсальной скоростью, обозначаемой константой с. Пока что тут нет ничего удивительного. Но это также означает, что человек, стоящий неподвижно на полу рядом с вами, замерит в точности ту же скорость с. Это наблюдение прямо противоречит тому, что, как нам кажется, мы интуитивно знаем о бросаемых в поезде мячиках. (Разумеется, в аэропорту нет вакуума, но атмосфера в нем влияет на скорость света лишь незначительно, и идея остается той же.)
Сделав это (подтвержденное экспериментами) допущение о скорости света и беспощадно применив простую логику к остроумным мысленным экспериментам, Эйнштейн вывел свою специальную теорию относительности.
Неизменность скорости света предполагалась также электромагнитной теорией Джеймса Клерка Максвелла. В известном смысле теория Максвелла была первой единой физической теорией: великий шотландский физик использовал критерии математической красоты и симметрии, чтобы скомбинировать существующие теории электричества и магнетизма, превратив их в набор уравнений, показывающих, что каждая из этих теорий была составной частью другой. Эти уравнения показывали, что колеблющиеся электрические и магнитные поля распространялись в пространстве в виде волн – световых, тепловых или радиоволн – со скоростью, которая была физической константой и не зависела от движения их источника или наблюдателя. Эйнштейн неизменно руководствовался теорией Максвелла при разработке собственной новой физики; то была общепризнанная теория, которая считалась соответствующей реальному положению дел и показывала, что принцип относительности Галилея небезупречен.
Помимо прочего, из специальной теории относительности следует, что если вы будете измерять течение времени на протяжении секунды в системе отсчета, движущейся относительно той, в которой находитесь сами, то обнаружите, что она длиннее, чем секунда в вашей системе отсчета. Иными словами, если, стоя на платформе, вы посмотрите на часы на проходящем мимо поезде, то увидите, что часы тикают медленнее, чем часы на платформе, где вы стоите. В сравнении с вашим, время в поезде замедляется. Почему до Эйнштейна этого никто не заметил? Разумеется, этот эффект – эффект реальный и ныне с невероятной точностью подтвержденный многочисленными экспериментами, – столь незначителен, что для его наблюдения вам потребуются либо сверхточные часы, либо скорости, весьма близкие к скорости света. И подтвердили его обоими способами: с помощью установленных на самолетах атомных часов и посредством наблюдений, показывающих, что элементарные частицы, двигающиеся со скоростью, близкой к скорости света, «живут» дольше, чем те, что ведут более размеренный образ жизни.
Еще одно следствие теории – что из-за скорости изменяется само пространство. Если бы у вас был способ с исключительной точностью измерить длину вагона в момент, когда он проезжает мимо вас, вы увидели бы, что он короче, чем когда поезд стоит на месте. Чем быстрее движется поезд, тем сильнее он сжимается в направлении движения.
Не буду больше говорить об этих эффектах; только на всякий случай проясню один запутанный вопрос: как бы быстро ни двигался поезд, сидящие в нем люди не заметят ничего необычного ни в отношении самих себя, ни в том, что происходит в поезде. Согласно замерам тех, кто остался на платформе, их часы замедляются, но и сами они замедляются. Замедляется само время, так что замечать нечего. То же касается и пространства: у людей нет способа определить, что вещи стали короче, поскольку короче стали и используемые ими для измерений линейки. Сжатие происходит относительно других систем отсчета.
В 1902 году Герман Минковский перебрался в Гёттингенский университет. Примерно в то время, когда Эмми Нётер получала докторскую степень, он читал там лекцию о недавно сформулированной специальной теории относительности Эйнштейна. Он не только прекрасно ее понял, но и нашел более наглядный (по его мнению) способ описания этих преобразований пространства и времени. По сути, то был элегантный математический фокус. «В изложении Эйнштейна его фундаментальная теория с математической точки зрения выглядит несуразной, – отмечал он, – я могу так говорить, поскольку математику он изучал в Цюрихе под моим руководством»46. Да, Минковский был одним из университетских преподавателей математики Эйнштейна.
Минковский показал, что в специальной теории относительности преобразование пространства и времени между разными системами отсчета с математической точки зрения тождественно вращению пространственно-временной системы координат (системы осей, на которых мы отмечаем положение объектов во времени и пространстве – пространстве одно-, двух- или трехмерном). Это наблюдение сделало неизвестное знакомым, поскольку, хотя преобразования Эйнштейна были для механики чем-то новым и странным, во вращении все уже прекрасно разбирались. Любые известные нам из геометрии математические уловки и механизмы могли теперь сделать расчеты, касающиеся специальной теории относительности, более простыми и интуитивно понятными. По сути, своим представлением о четырехмерном пространстве-времени мы обязаны Минковскому. В таком пространстве-времени три пространственных измерения сочетаются со временны́м, но не так, как это могли бы сделать Галилей или Ньютон, у которых пространство и время имели совершенно разную природу. В пространстве-времени Минковского временны́е и пространственные координаты теснее друг с другом связаны: у Минковского при вращении временны́е и пространственные интервалы смешиваются воедино.
Показав, что описанные Эйнштейном преобразования пространства-времени эквивалентны вращению, Минковский обнаружил скрытую симметрию в уравнениях специальной теории относительности – симметрию, которой не заметил Эйнштейн. Важным аспектом этой математической перспективы было открытие, что при вращении системы координат (и, следовательно, изменении мер пространства и времени) кое-что остается неизменным. Эти важные, неизменяемые величины являются инвариантами специальной теории относительности и связаны с теорией инвариантов, которой Эмми Нётер посвятила докторскую диссертацию. Как мы увидим ниже, это включение элементов теории инвариантов в теорию относительности – первая из предпосылок достигнутого Нётер результата.
Уловка Минковского изящно акцентирует радикальное следствие теории относительности: пространство и время не являются неизменно изолированными. Все, что нужно – это ступить на движущуюся платформу, и пространство, и время, некогда бывшие разными понятиями, смешиваются.
Минковский отметил, насколько революционным является этот вывод: «С этих пор пространство само по себе и время само по себе обречены раствориться в тенях, и лишь своего рода союз двух этих явлений будет сохранять самостоятельную реальность»47.
В своей книге о том, как Эйнштейн разработал общую теорию относительности, Джон Гриббин выдвигает предположение, что широким одобрением своих идей и даже своим академическим успехом в целом Эйнштейн был в значительной мере обязан той пространственно-временно́й формулировке, которую дал его специальной теории относительности Минковский48. Хотя, как мы отметили, Эйнштейн оценил работу Минковского в области теории относительности, сомнительно, что он придавал ей такое же важное значение.
Эйнштейн не сразу понял, что замыслил Минковский. Собственно, он раздраженно сострил: «С тех пор, как математики набросились на мою теорию относительности, я сам ее больше не понимаю»49. Некоторое время он считал формулировку Минковского, описывающую четырехмерное пространство-время, своего рода бессмысленным проявлением учености, а статьи Минковского «излишне запутанными»50. Все это было сказано в контексте его подозрений, что гёттингенские математики подчас хотели скорее покрасоваться, чем попытаться изложить дело ясно – по крайней мере, когда их работа касалась физики51. Однако в конечном счете Эйнштейну пришлось пересмотреть это мнение52. Он не только оценил подход Минковского, но и впоследствии использовал его в собственных работах.
Эмми Нётер, преподавательница математики
Здоровье отца Эмми Нётер, всегда бывшее шатким, после получения его дочерью докторской степени постоянно ухудшалось. Ему все сложнее было преподавать.
Наличие степени не означало в случае Эмми работы в университете. В Германии первого – и большей части второго – десятилетия XX века не существовало такого явления, как должность университетского преподавателя для женщины. Разумеется, ей это было известно. Она знала, что доктор Эмми Нётер не сможет стать профессором математики, тогда как ее друзья и коллеги мужского пола с такими же дипломами нашли работу. Она работала над диссертацией не для того, чтобы получить профессиональную квалификацию; она делала это из бескорыстной жажды знаний и ради опыта исследовательской работы.
А потому она осталась в Эрлангене и стала неоплачиваемым ассистентом своего отца. Она также начала работать над собственным исследовательским проектом, который изначально был связан с темой ее диссертации, еще немного продвинувшись в изучении теории инвариантов. Она стала членом нескольких математических обществ и начала посещать их заседания. Участие в этих ассоциациях позволило ей обсуждать свою работу с более широким кругом исследователей и помогло этому широкому кругу познакомиться с ней. Собрания радовали ее и рождали новые мысли, и время от времени она с удовольствием делала доклады о своей работе. Вечера после официальных заседаний были полны бурного неформального общения, и Эмми Нётер часто присутствовала на этих собраниях. Почти всегда она была на них единственной женщиной-математиком – иными словами, единственной женщиной, которая не была замужем за математиком53.
В 1910 году ее научный руководитель Пауль Гордан вышел на пенсию. Человек, сменивший на посту того, кто заменил Гордана – Эрнст Фишер, – стал важнейшим среди ее наставников. На протяжении пяти следующих лет они непрестанно беседовали о математике. Нётер оставила пространные заметки об этих беседах и часто присылала Фишеру открытки, исписанные математическими выкладками несмотря на то, что оба жили в Эрлангене54.
Под руководством Фишера Нётер сильно изменилась как математик. Она отказалась от усвоенного ею от Гордана стиля, предполагавшего скрупулезные, почти алгоритмические вычисления, и начала осваивать более абстрактную методологию. То был стиль, который ассоциировался с Гильбертом и его методами доказательства, которые Гордан отмел как богословские. Она с энтузиазмом восприняла этот новый подход к математике и начала с пренебрежением относиться к методу, которому изначально была обучена.
Ее отец более не мог преподавать или исполнять другие свои обязанности. Его дочь начала преподавать его курсы в качестве постоянного, неоплачиваемого замещающего преподавателя. Она даже руководила докторантами. Она публиковала новые статьи, получавшие большое одобрение, и продолжала посещать конференции и выступать на них.
Короче говоря, в тот момент жизнь Нётер напоминала жизнь первоклассного математика на заре многообещающей научной карьеры, жизнь, которая неизбежно должна была принести уверенность в завтрашнем дне и жизненные блага, связанные с престижными должностями. Она преподавала, руководила диссертантами и, благодаря собственной исследовательской работе и активному участию в конгрессах и собраниях коллег, завоевала стремительно упрочивавшуюся международную репутацию. Коллеги же – сообщество математиков – по большей части принимали ее как равную: она и была им равна – она входила во все еще узкий круг посвященных, говоривших на своем тайном языке.
Однако, как бы высоко ни ценили ее товарищи, Нётер не было суждено насладиться карьерой первоклассного математика. Из-за немецких законов, регламентов, традиций и господствовавших в обществе настроений университет продолжал пользоваться плодами ее неоплаченного труда, а ей самой и дальше дозволялось укреплять репутацию немецкой науки, но официального признания своих заслуг она при этом ожидать не могла. Вместо этого она наблюдала, как вереница уступавших ей талантом мужчин непрерывно поднимается по карьерной лестнице, оставляя ее позади. Положение начало меняться лишь по окончании Великой войны.
Хотя некоторые из ее коллег сетовали на то, как с ней обращаются, и даже вступали в бой за то, чтобы найти для нее место, сама она, судя по всему, вела себя в соответствии с процитированными выше словами Вейля: сложившиеся обстоятельства не вызывали у нее протеста. Нет свидетельств, чтобы она хоть раз возмутилась тем, как с ней обходятся; ни в одном из ее писем или сохранившихся высказываний нет никаких следов горечи или жалости к себе. Напротив, казалось, что она с юмором (но вовсе не сквозь розовые очки) смотрит на свое положение и мир в целом. Она ничего не ждала. Она была очень счастлива тому, что у нее есть возможность заниматься исследованиями, преподавать и беседовать о математике – единственном предмете, доставлявшем ей ничем не омраченную радость.
* * *
Слава Гильберта продолжала греметь. Он закрепил за Гёттингеном статус генерального штаба математики в западном мире. Теперь любой исполненный надежд математик хотел там учиться – и Гильберт был тому основной причиной. Он быстро превращался в первую подлинную математическую суперзвезду и сделал факультет математики Гёттингенского университета главной целью студентов, прибывавших со всей Европы, из Америки и даже из далекой Японии.
Кажется, слава никак не отразилась на Гильберте. Его бывший студент, Отто Блюменталь, отмечал, что тот воспринимал похвалы с «наивным, сдержанным удовольствием, не позволяя себя смутить и заставить демонстрировать ложную скромность»55. К этому времени сотни людей регулярно заполняли лектории Гёттингенского университета, чтобы его послушать: в аудиториях не было свободных мест, и люди рассаживались на подоконниках. Тем не менее, согласно одному из очевидцев: «Поведение Гильберта не изменилось бы, даже войди в аудиторию сам император». Но причиной тому было не раздутое самомнение: «Гильберт оставался бы собой, даже перебиваясь с хлеба на воду»56.
Хотя лекции Гильберта были очень популярны, нетрадиционные подходы иногда навлекали на его голову неприятности57. Поскольку он предпочитал вести импровизированные вычисления на доске, объясняя их по ходу дела вместо того, чтобы переписывать материал тщательно подготовленной лекции, то, естественно, иногда заходил в тупик. Если вокруг не было никого, способного понять, куда двигаться дальше, он просто пожимал плечами и говорил: «Что ж, мне следовало бы подготовиться получше». Хотя такой подход может показаться залогом катастрофы, он позволял студентам увидеть, какие трудности и творческие усилия сопряжены с настоящими занятиями математикой. По сути, они могли стать свидетелями процесса открытия, что сделало лекции Гильберта столь памятными для многих. Присутствие на занятиях Гильберта составляло для большинства освежающий контраст с идеально проработанными и безупречными лекциями Феликса Клейна. Пауль Эвальд, которому предстояло стать выдающимся физиком и кристаллографом, но в то время работающий «стенографистом» на лекциях Гильберта, описывал происходящее как опыт присутствия при спонтанном создании Гильбертом новой математики, а не механическом повторении прописных истин58.59
В начале 1900-х годов Гильберт получил звание, бывшее, грубо говоря, немецкой версией британского рыцарства60. Однако он с раздражением и даже грубостью относился к тем, кто настаивал на использовании при обращении к нему этого титула61. Гильберта не сильно тревожило то, как именно к нему обращаются, но он был нетерпим к излишней официальности и в особенности заискиванию.
Клейн и Гильберт представляли собой интересный пример разительного контраста. Клейн тоже получил звание рыцаря и предпочитал, чтобы к нему обращались, используя предполагавшийся этим званием титул. Американский математик Норберт Винер посетил Клейна после того, как немецкий профессор вышел в отставку. Винер постучал в его дверь и спросил экономку, дома ли «профессор». Она строго поправила его, сказав, что Клейн дома, но поставив вместо «профессора» громкий титул62. А когда бывшего студента спросили, какое обращение в те годы предпочитал Гильберт, тот ответил: «Гильберт? Ему было все равно. Он был королем. Он был Гильбертом».
За время пребывания в Гёттингене Гильберт произвел глубокое впечатление на длинный ряд студентов и коллег, многих из которых впоследствии прославил вклад, сделанный ими в математику и точные науки. Макс фон Лауэ, будущий нобелевский лауреат в области физики, но в те годы – студент, посещавший некоторые из прочитанных Гильбертом в Гёттингене лекций, сказал о своем профессоре: «Этот человек живет в моей памяти как, пожалуй, величайший из гениев, которых я видел в своей жизни»63. Размышляя о значении этого воспоминания, мы должны иметь в виду, с каким огромным числом первоклассных научных умов сталкивался за свою жизнь фон Лауэ.
Математик Харальд Бор вспоминал о Гильберте так: «Вся гёттингенская жизнь была озарена блистательным гением Давида Гильберта, будто связывавшего нас воедино… практически каждое его слово о задачах, стоящих перед нашей наукой, и о мире в целом казалось нам поразительно свежим и обогащающим»64.
Минковский позднее писал Гильберту: «…у тебя можно многому научиться – не только математике, но также искусству разумного, подобающего философу наслаждения жизнью»65.
Несмотря на то, что Гильберт был постоянно погружен в самые возвышенные области чистой математики, было бы ошибкой думать о нем как о рассеянном и отрешенном профессоре; когда обстоятельства того требовали, ему не была чужда проницательность в житейских делах. Такая ситуация возникла, когда его имя внезапно прогремело, и ему предложили занять престижную профессорскую должность в Берлине66. Студенты Гильберта боялись, что такая возможность слишком соблазнительна, чтобы от нее отказаться, но тем не менее попытались убедить того остаться в Гёттингене. Казалось, что Гильберт был поглощен собственными мыслями и, к их смятению, не развеял их страхи. Однако они ничего не знали о подковерной игре, которую начал их любимый профессор, планировавший использовать это предложение как рычаг давления. Продемонстрировав немалый дипломатический талант, он сумел надавить на соратника Клейна, Фридриха Альтхофа, заставив того учредить в Гёттингене новую должность и согласиться на то, чтобы ее занял старый друг Гильберта, Минковский. Когда пыль улеглась, все в Гёттингене сияли от радости – включая самого Гильберта; его научную жизнь теперь должно было еще больше обогатить присутствие одного из любимых товарищей по занятиям математикой. Впоследствии выяснилось, что Минковский оказал на Гильберта важное влияние, убедив того, что весьма существенно, глубже погрузиться в изучение физики67.
Гёттинген – это больше, чем место работы, гораздо больше, чем просто учебное заведение. Старый университет – один из главных героев в этой истории: сам дух места, бремя его великолепной истории, то, какую среду он создавал для интеллектуальных странствий, разворачивавшихся как в его стенах, так и на тропинках окружающих его лесов, делает его активным участником эпохальных открытий Гильберта и его друзей. Американские физики Леон Ледерман и Кристофер Хилл так описывали немецкий университет той эпохи:
Немецкий университет конца XIX – начала XX веков… представлял собой в высшей степени влиятельное сообщество, в особенности в области точных наук и математики – здесь он считался лучшим в мире. В то время он был местом формирования высочайших научных стандартов, колыбелью квантовой механики и общей теории относительности Эйнштейна – а также большей части современной математики… здесь представителей этнических меньшинств ждало толерантное, открытое и восприимчивое общество, место, где можно было процветать, сулившее отдохновение от твердокаменного националистического консерватизма остававшегося за его стенами общества. То была спокойная, располагающая к созерцательности среда, сообщество ученых, объединенных глубокой и неизменной приверженностью абстрактным предметам их интереса68.
Ледерман и Хилл говорят не о самом Гёттингене, но в целом о немецких университетах; Гёттингену посчастливилось завоевать в то время славу столицы математики и точных наук. Разумеется, у этой терпимости, свободы и меритократии были ограничения: этнические меньшинства – да, женщины – определенно, нет. Было и другое ограничение, классового характера. Оно не налагалось непосредственно самими университетами, но было фактическим препятствием, возникавшим вследствие организации немецкой системы образования. Лишь те, кто обладал определенным материальным положением, могли подготовиться к сдаче экзамена, прохождение которого позволяло причаститься этой меритократии.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе